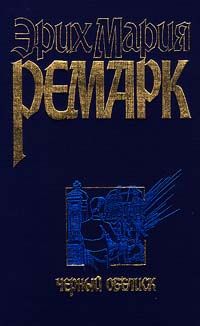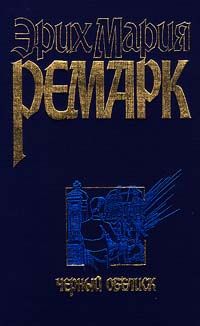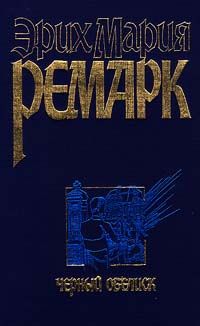Я держу в руке бутылку водки и сижу на последней скамье в аллее, откуда видны все корпуса лечебницы. В кармане у меня хрустит чек на твердую валюту: на тридцать полноценных швейцарских франков. Чудеса не прекращаются: швейцарская газета, которую я уже два года бомбардирую своими стихами, в припадке безумия приняла один и сейчас же прислала мне чек. Я уже заходил в банк — все в порядке. Управляющий банком немедленно предложил мне оплатить этот чек черными марками. Я ношу чек в нагрудном кармане, возле сердца. Он опоздал на несколько дней. Я смог бы тогда купить на него новый костюм и белую рубашку, иметь элегантную внешность и в таком виде предстать перед дамами Терговен. Но я уезжаю! Посвистывает декабрьский ветер, чек похрустывает, я сижу здесь, внизу, на скамейке в воображаемом смокинге и лакированных туфлях, которые мне обещал Карл Бриль, хвалю Господа и обожаю тебя, Изабелла! В боковом кармане у меня небрежно засунутый тончайший батистовый платок, я — путешествующий капиталист, «Красная мельница» у моих ног; если захочу, в моей руке блеснет шампанское бесстрашных пьяниц, всегда недостаточно пьяных, напиток фельдфебеля Кнопфа, которым он заставил смерть обратиться в бегство; и я пью, глядя на серую стену, за которой находишься ты, Изабелла, ты, юность, с твоей матерью, с бухгалтером Господа Бога Бодендиком, с командиром разума Вернике, с великим смятением и вечной войной; я пью и смотрю влево: там окружной родильный дом, в нескольких окнах еще горит свет, матери родят, и меня вдруг изумляет, как близко стоит родильный дом от лечебницы для душевнобольных; я знаю этот дом, должен знать, ведь я же в нем родился, но до сих пор об этом как-то не думал! Приветствую и тебя, знакомое убежище, улей плодовитости, мою мать привезли сюда оттого, что родители были бедны, а здесь рожали бесплатно, если роды принимали учащиеся — будущие акушерки; таким образом, я уже при своем рождении послужил науке! Приветствую архитектора, который с таким глубокомыслием построил тебя, родильный дом, почти рядом с другим домом! Вероятно, в этом не было никакой иронии, ибо лучшие остроты на свете говорятся серьезными людьми, которые на виду. Во всяком случае — да здравствует наш разум, но не будем чересчур гордиться им и не будем в нем слишком уверены! Ты, Изабелла, получила его обратно, этот дар данайцев, а наверху сидит Вернике и радуется, и он прав. Но каждая правота — это шаг к смерти. И тот, кто прав, всегда становится черным обелиском! Надгробным памятником!
Бутылка пуста. Я зашвыриваю ее как можно дальше. Падая, она мягко ударяется о взрыхленную пашню. Я встаю. Выпито достаточно, я созрел для «Красной мельницы». Сегодня Ризенфельд устраивает там прощальный вечер в честь спасших ему жизнь. Будут Георг, Лиза, потом приду я — мне нужно предварительно кое с кем попрощаться, — и мы все вместе грандиозно отпразднуем прощание… с инфляцией.
Поздно ночью следуем мы по Гроссештрассе, словно похоронное шествие пьяных. Редкие фонари мигают. Несколько преждевременно опускаем мы в могилу истекший год. К нам присоединились Вилли и Рене де ла Тур. Между Вилли и Ризенфельдом разгорелся яростный спор: Ризенфельд клянется, что инфляции пришел конец и что вводится «ржаная марка», а Вилли заявляет, что он тогда станет банкротом и уже по одному этому такой слух не может быть правдой. Зато Рене де ла Тур стала очень молчаливой.
Сквозь веющий ветром ночной сумрак мы видим вдали другое шествие, оно движется нам навстречу с противоположного конца Гроссештрассе.
— Георг, — говорю я, — пусть дамы немного отстанут. Похоже, что те затеют с нами ссору.
— Ладно.
Мы уже возле Нового рынка.
— Если заметишь, что они берут верх, сейчас же беги в кафе Мац, — инструктирует Лизу Георг, — спросишь там Бодо Леддерхозе и скажешь, что он нам нужен. — Затем повертывается к Ризенфельду: — Лучше сделайте вид, что не имеете никакого отношения к нам.
— А ты, Рене, удирай, — наставляет Вилли свою даму. — Держись подальше, если начнется драка!
Второе шествие подошло к нам вплотную. Его участники в сапогах — это же великая мечта немецкого патриота, — и все они, кроме двух, не старше восемнадцати — двадцати лет. Зато их вдвое больше, чем нас.
Мы минуем друг друга.
— А этого красного пса мы знаем! — вдруг кричит кто-то. Шевелюра Вилли светится и ночью.
— И того вон, лысого! — кричит второй голос и показывает на Георга. — Бей их.
— Лиза, беги! — говорит Георг.
И у Лизы только подметки засверкали.
— Эти трусы хотят позвать полицию! — восклицает белобрысый очкастый молодчик, он намерен погнаться за Лизой.
Вилли дает ему подножку, белобрысый летит наземь, и тут же начинается свалка. Нас пятеро, не считая Ризенфельда. Вернее, четверо с половинкой. Половинка — Герман Лотц, наш однополчанин и инвалид войны, у него левая рука ампутирована по самое плечо. Он и другой наш сотоварищ, малорослый Кэлер, присоединились к нам в кафе «Централь».
— Берегись, Герман, — кричу я, — как бы они тебя не сбили! Держись посередке! А ты, Кэлер, если упадешь, кусай их!
— Прикрыть с тылу! — командует Георг. Правильный приказ. Но в данную минуту нашим прикрытием служат всего-навсего большие витрины магазина мод Макса Клейна. Патриотическая Германия атакует нас, а кому приятно, если его прижмут к витрине? Об осколки раздерешь себе спину, да и хозяин потребует возмещения убытков. И если мы застрянем в разбитой витрине, то будем пойманы с поличным. Бегство окажется невозможным.
Пока мы держимся тесной кучкой. Витрины изнутри слегка освещены, поэтому наши противники нам очень хорошо видны. Я узнаю одного из более взрослых: он был в числе тех, с кем у нас в кафе «Централь» уже произошел скандал. Следуя древнему правилу, что надо сначала обезвредить вожаков, я кричу ему:
— Подходи, трус, лопоухая задница!
Но он об этом и не помышляет.
— А ну, вырвите-ка его оттуда, — приказывает он своей охране.
Трое бросаются на нас. Вилли дает одному молодчику такой удар по голове, что тот валится с ног. Второй вооружен резиновой дубинкой и бьет меня по руке. Я не могу его схватить, поэтому он хватает меня. Вилли это видит, делает скачок и выкручивает ему кисть. Резиновая дубинка падает наземь. Вилли хочет ее поднять, но его опережает другой.
— Хватай дубинку, Кэлер, — кричу я. Кэлер вмешивается в свалку дерущихся на земле, где борется Вилли в своем светло-сером костюме.
Наш боевой порядок прорван. Я получаю удар и отлетаю к витрине с такой силой, что звенит стекло. К счастью, оно цело. Над нами открываются окна. А позади, из глубины витрины, на нас таращат глаза элегантные деревянные манекены Макса Клейна. Они неподвижны в своих одеждах, сшитых по последней зимней моде, и похожи на странную немую версию рассказа о древнегерманских женщинах, которые, стоя перед военными обозами, разжигали боевой пыл воинов.
Долговязый прыщеватый малый хватает меня за горло. От него несет селедкой и пивом, а лицо так близко от моего лица, словно он намерен поцеловать меня. Моя левая рука совсем онемела от удара дубинкой. Пытаюсь большим пальцем правой руки нажать ему на глаз, но он мешает мне тем, что крепко прижимается головой к моей щеке, словно мы противоестественные влюбленные. Я не могу и пнуть его ногой, так как он стоит слишком близко, и я оказываюсь в довольно беспомощном положении. Но в ту минуту, когда я, задыхаясь, последним усилием соскальзываю на мостовую, я вижу нечто кажущееся мне бредом моего меркнущего сознания: из прыщеватого лба этого молодчика вдруг вырастает цветущий куст герани, словно это особо удобренная куча навоза, в его глазах появляется покорное изумление, рука, сжимающая мне горло, ослабевает, вокруг нас разлетаются глиняные черепки, я приседаю, освободившись, резко выпрямляюсь и слышу громкий треск — мне удалось ударить его снизу головой в подбородок, и он медленно оседает на колени. Странная вещь: корни герани, которой в нас запустили сверху, так тесно обхватили его голову, что этот прыщавый германец падает на колени, увенчанный цветком. Он кажется прелестным потомком своих предков, украшавших головы бычьими рогами. А на его плечах, словно обломки разбитого шлема, лежат два майоликовых черепка.
Это был большой цветочный горшок, но лоб у патриота, как видно, оказался медным. Я чувствую, как он, все еще стоя на коленях, пытается меня ударить в пах; я хватаю герань вместе с корнями и комьями прилипшей земли и хлещу его по глазам. Он подносит руки к глазам, трет их, и так как я не могу пустить в ход кулаки, то в свою очередь даю ему пинок в пах. Он точно сламывается и опускает руки, чтобы защитить себя. Я опять хлещу его по глазам переплетенными корнями с землей и песком и жду, когда он снова поднимет руки, чтобы протереть глаза. Но он падает ниц, словно отвешивая по-восточному низкий поклон, и через миг все вокруг меня наполняется звоном. Я зазевался и получил сбоку оглушительный удар. Медленно соскальзываю наземь вдоль витрины. Кукла-великанша в бобровой шубе безучастно пялится на меня намалеванными глазами.