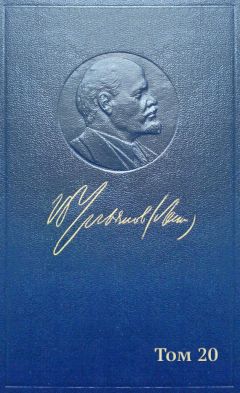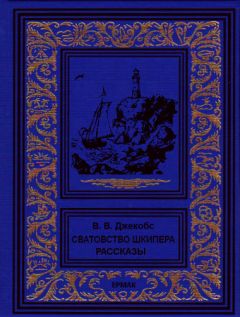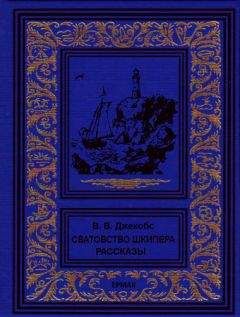Но пришли тяжелые года: земля стала уплывать из-под дворянских ног, да так живо, что остался в уезде один Вадим Андреевич, да и у того были отхвачены немалые куски.
Кругом в имениях засели новые люди, повырубили сады, перекрасили дома, с мужиками повели иные порядки. Один кудрявый купчик сунулся было к Вадиму Андреевичу на поклон: может быть, за дочку его Зою думал посвататься (про дочку его бог знает что плетут, говорят: городская она совсем — в городе воспитание получила, худая, как вермишель, стихи пишет и коньяк пьет); но Тараканов собственноручно сковырнул купчика с крыльца, заперся и объявил: «Покуда, мол, всю сволочь из уезда не выгонят — ноги не вынесу за околицу». И слово свое сдержал…
Много всякой всячины и ерунды рассказывал землемер, а Видиняпин уже давно дремал, навалясь на его плечо. Вдруг Алексей Петрович, подкинувшись, сел: то кони стали у околицы…
— Приехали, — сказал землемер, странно улыбаясь, а ямщик, спрыгнув с козел, постучал по околице кнутом.
Спустя время из темноты послышался голос:
— Проехать, что ли, надо? Вот народ беспокойный: все едет, все едет, — и со скрипом отворилась околица. Ямщик прикрикнул на коней, и понесли они вдоль деревни, где направо и налево стояли темные, словно присевшие избы, с шестом у ворот, скворешней и засохшей веткой на ней.
Переехав шагом, под старыми ветлами, плотину, по обеим сторонам которой залегали звездные сейчас пруды, взобрались кони, испуганные громким уханьем жаб, на изволок и стали у второй заставы, где, колотя в колотушку, ходил мужик с фонарем. Мужик, подойдя, посветил в прищуренное, с козлиной бородкой, лицо ямщика, оглянул седоков, вздохнул, запахнувшись в чапан, и отошел.
— Что же ты не отворяешь? — крикнул Алексей Петрович. — Эй, поди-ка сюда, подожди, — и, выскочив из плетушки, схватил мужика за полу.
— Пропускать не велено в эдакую пору, — сказал мужик сонно, — а ты меня не хватай, я тебя не обидел.
Видиняпин, взяв мужика за плечи, стал трясти; голова у мужика болталась, и он, говоря: «Какой же ты неуютный», пропустил Алексея Петровича через калитку в дубовую аллею, откуда Видиняпин крикнул землемеру:
— Подождите меня часика два на селе, покормитесь, я живо оборочусь.
Дубовая аллея окончилась поляной, наверху полной звезд; из-за кустов углом вышел сюда белый барский дом, с плющом по стене и пятнами облупившейся штукатурки; около стены, брехая, бегали черные собаки на очень высоких ногах. На брех и на оклик Видиняпина показался свет в окне, потом на крыльцо вышел бритый старичок в длиннополом сюртуке.
— Здравствуйте, батюшка, — сказал старичок, — с приездом, пожалуйте, — и, заслоня свечу, лукаво улыбнулся, отчего крошечное лицо его собралось в морщины, словно сразу высохло.
«Ох, как бы не попасть в историю, — думал Видиняпин, идя вслед старичку по коридору, — не заплатит он, еще отколотить велит… Не надо бы мне одному являться».
Старичок постучался в широкую дверь и прошептал:
— Вы непривычный здесь, батюшка, так не обижайтесь, если выйдет чего: озорник он у нас, а хороший барин.
Алексей Петрович вошел и в изумлении стал на пороге.
В глубине залы, освещенной одной свечой, поставленной перед трюмо, сидел в кресле за столиком Вадим Тараканов; на голых и растопыренных ногах его лежал живот, прикрытый ночной рубашкой, расстегнутой на груди; в руке держал он стакан, а на круглом, с татарской черной бородкой, лице его под изломанными бровями прыгали свирепые глазки.
— Не подходи, — сказал Вадим Андреевич шепотом, подался вперед и крикнул: — Вон!
Старичок подхватил Видиняпина и, вытащив в коридор, объяснил:
— Это пугнули вас на всякий случай, а теперь он смеется; идемте, я вас пока наверх отведу; ничего, батюшка, не бойся.
Фыркая от обиды и ничего не понимая, поднялся Алексей Петрович по винтовой лесенке в низкую антресоль, сел на кровать и, ударив себя по коленям, крикнул:
— Каков нахал! Нет, сию же минуту подай мне деньги, а? — при этом наморщил лоб и потер его. А дверь напротив в это время приотворилась, просунулась женская голова с распущенными волосами, спросила: «Можно войти?» — ив комнату подпрыгивающей походкой вошла худая девушка в белом и узком платье и села на стул у окна.
Алексей Петрович встал, насупился и поклонился боком. Девушка длинными пальцами расправила платье на коленях и, сказав: «Вас удивляет мое появление», — подняла на Видиняпина великолепные, неправильно поставленные глаза и усмехнулась большим ртом, причем углы его поднялись, словно у клоуна, кверху.
— Мне сказали, что приехал гость, а я уж давно никого не видела, — продолжала девушка. — Мы живем только ночью, потому что мужики хотят меня и папу убить. Я вам нравлюсь? — вдруг спросила она просто и серьезно.
— Простите, — перебил Алексей Петрович, — но ваш папа выгнал меня, и мое положение здесь очень странное…
— Ах, вы не поняли, — воскликнула девушка с досадой, — он был пьян и сам напугался… А вы любите пить? Ведь счастье только во сне и в забытьи.
Девушка полузакрыла глаза, мечтательно улыбнулась и охватила колено.
— Чего вы молчите? Вы боитесь? Я не провинциалка. Я семь лет жила в Петербурге. Вы не поэт? Неправда. Я тоже пишу стихи. Хотите, прочту?
Она вдруг вытянула длинную шею; Видиняпину стало неловко. А девушка хрустнула пальцами и сказала:
Я б тебя затомила;
Я б убила любя,
Женская темная сила
Страшна для тебя.
Целуя бы, я укусила
Твой алый, твой алый рот.
Знает ли кто наперед,
Какая у девушки сила?
«Что за чепуха», — подумал Видиняпин в страхе.
А девушка чуть покосилась на Алексея Петровича, потом громко засмеялась, прыгнула на подоконник, протянула руки и молвила:
— Подойдите сюда; правда, плохие стихи? Ах, вы — трезвый человек. А стоит ли жить трезво? — Скучно. Поглядите на звезды; это я их рассыпала. Хотите их собрать? А любить вам хочется?
Алексей Петрович сильно провел по глазам ладонью: стыдно ему было — хоть плачь, и, главное, путано и от стихов и от неприличных вопросов, которые, как осы, кололи со всех сторон.
— Я стихов не читаю, человек некрасивый и дикий, а приехал насчет быков, — сказал он, глянул на девушку и добавил поспешно: — Хотя ничего, я побаловаться не прочь.
Тогда она ударила кулачками по подоконнику, засмеялась невесело, взяла Алексея Петровича за рукав, потянула к своему лицу и стала глядеть в глаза скошенными глазами. Видиняпин вспотел и хотел увернуться, а она, гневно мотнув головой, сказала:
— Что же вы не «балуетесь»… Страшно?
И Алексей Петрович, задев маленькую и твердую ее грудь, почувствовал необыкновенное волнение, охватил девушку за бока и стал тащить с подоконника, подумав: «Черт с ними, с деньгами».
Но девушка ловко увернулась и сказала насмешливо:
— Так только мужики делают, дамский вы кавалер!
— Все равно, все равно, — бормотал Алексей Петрович, — я кавалер, ей-богу, — и тянулся, даже на колени встал, но девушка, подобрав платье, обошла его, толкнула раму окна, перегнулась к деревьям сада и молвила равнодушно:
— Вы или глупы, или наивны.
Но в это время постучали в двери, и голос старичка произнес:
— Барин извиняются и сойти вниз просят.
Видиняпин покраснел и вышел на лестницу, не понимая: что же теперь делать ему после всего?
Вадим Андреевич при виде гостя приподнялся на своем месте, протянул руки и обнял Алексея Петровича, прижав его к жирной груди.
— А ведь я не узнал тебя, не узнал, Алексей Петрович… Напугал, наверно? Прости, душа… Погостить приехал? А у меня, брат, такая скучища — мы с дочкой Зоей совсем раскуксились. Забыли все старика, никому он не нужен. Да ты чего стоишь, плюнь на меня, садись, бери стакан, не стесняйся, душа; этот коньячок мне приятель из гвардии присылает. А твои дела — сам вижу: похорошел, возмужал.
И Вадим Андреевич принялся пребольно похлопывать Видиняпина, отчего тот морщился, проливая вино на колени; а когда коньяком обожгло ему все нутро, подумал: «А ведь в самом деле — старик славный, не отложить ли должок?» — и поглядел на дверь, за которой прошумело платье Зои.
— А я, брат, совсем профершпилился, — продолжал Вадим Андреевич, — продал последний лесок, а деньги, как птички — только хвостики показали. Да, Алексей Петрович, конец нашему уезду, крах. Двадцать лет назад — да мы царями сидели. Выкатишь, бывало, в коляске — все шапки долой, кругом хутора дворянские, родня, благородство имен: Собакины, Репьевы, шесть сыновей Осокина, Теплов старик и я — Тараканов, столпы. А теперь сволочь какая-то сидит, сволочь к тебе и в дом лезет.