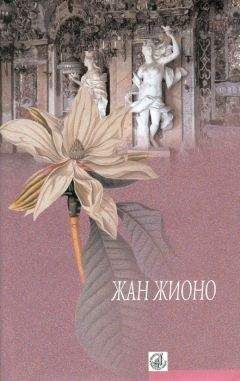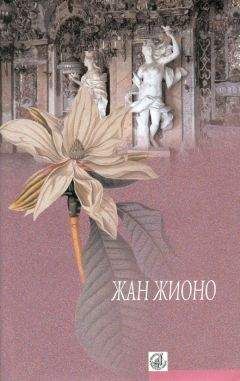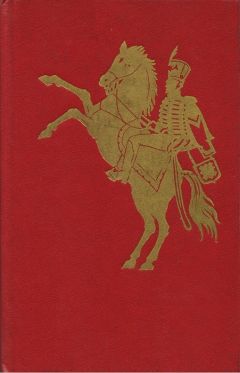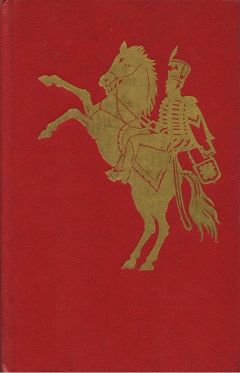Откроем скобки. Он хочет подчеркнуть обоснованность своего взгляда на вещи. Холера — это таящаяся в бездонных глубинах грозная болезнь. Причина ее — не инфекция, а прозелитизм. Прежде чем идти дальше, остановимся на одном очень важном моменте. Вот перед вами мужчина (или женщина), который лежит, словно разделанная говяжья туша в мясной лавке, и вот врач, склонившийся над ним со своими инструментами. Ему известно, от чего этот мужчина (или женщина) умер. Но глубинный смысл этого «от чего» — совсем другое дело. И чтобы постичь его, понадобится узнать, «как» этот мужчина (или женщина) жил. А ведь этот мужчина (или эта женщина) любил, ненавидел, лгал, наслаждался и страдал от любви, ненависти и лжи других. Но при вскрытии мы не обнаруживаем ни малейших следов всего этого. Этот мужчина (или женщина) любил, а я ничего об этом не знаю. Он ненавидел, а я не знаю как. Он наслаждался и страдал — все тлен! Кто может с уверенностью сказать, что нет никакой связи между зеленоватой желчью, которой наполнены его кишки, и любовью (когда она настоящая, глубокая, такая, какой она должна быть, когда она длится десять или двадцать лет, пусть даже направленная на различные объекты)? Кто мне докажет, что ненависть или ревность не имеют никакого отношения к этим багровым или синеватым пятнам, к этим внутренним язвам, которые я обнаруживаю на слизистой оболочке кишечника? Кто мне докажет, что молния внезапной любви и разноцветные всполохи наслаждения, тысячи раз обрушивавшиеся на этот организм, не оставили в нем никаких следов? Может быть, именно их я и вижу? Закроем скобки.
Нет, мадемуазель, о сердце я не говорил. Это лев, вышитый на нашей рубашке. В моих развалинах нет ничего подобного. В том месте, на которое вы указываете, я обнаруживаю насос, всасывающий и перегоняющий, выполняющий свою скромную работенку, и, если он перестает ее делать, этого нельзя не заметить. Оставьте в покое святого Венсента де Поля и компанию. Его пристанище в другом месте. Он приходит из лилового океана, он всплывает из глубины вод, блестящих, как тот сахар, столь милый сердцу Клода Бернара. Это нечто вроде: «Вся ярость впившейся в добычу Афродиты». При помощи желудочного сока я вам в избытке состряпаю милосердие Августа, а Дон Жуан только и ждет, чтобы я ошибся в дозировке. Свободная воля — это всего лишь учебник химии.
Он думал, что их гордость будет уязвлена. Нет? Это действительно ничуть вас не задевает? Заметьте, ваше так называемое смирение — всего-навсего леность сытого желудка после обеда у жаркого камина, в дивную погоду (которая, если я не ошибаюсь, все хорошеет и хорошеет). А также, он этого не скрывает ни от себя, ни от других, несомненное удовольствие, которое всегда доставляет беседа на эту тему. Но в глубине души вы искренне убеждены, что вы сами не имеете никакого отношения к этим химическим соединениям. Вы тайком поглаживаете льва, вышитого на вашей рубашке. Впрочем, под рубашкой у вас сосок, а сосок очень чувствительное место у представителей обоих полов.
Так вот, он не будет более скрывать этого от них: холера — это не болезнь, это — уязвленная гордость. Уязвленная гордость, поднимающаяся из бездонных глубин, из бескрайних просторов, о которых я вам только что говорил; гармонирующая со странными возможностями этих просторов и этих бездн; избыточность фиоритуры (если можно так выразиться), шарманка бесконечной химической реакции; вышитый лев, поставивший лапу на сосок вашей груди, вдруг обретает плоть и доисторические размеры. Впрочем, все завершается неизбежной химической реакцией. Но зато какой ослепительный фейерверк!
Знаете, что лучше всего подходит для стола в анатомическом театре? Географическая карта, карта Страны Нежности с Восточной Индией в натуральную величину. Когда в Париже полдень, на Цейлоне — пять часов утра; а когда полдень на Таити, в Лиме — шесть часов вечера. В то время как верблюд агонизирует в песках Каракорума, гризетка пьет шампанское в английском кафе, семейство крокодилов плывет вниз по течению Амазонки, стадо слонов пересекает экватор, лама, груженная борнокислым натрием, плюет в лицо своему погонщику на горной тропе в Андах, кит плывет между Северным полюсом и Лофотенскими островами, а в Боливии — праздник Девы Марии. Шар, состоящий из земли и воды, катится во мраке и одиночестве, неизвестно почему и как.
Снова откроем скобки; поговорим о том, что придет на ум, не думая о логике. Вы когда-нибудь смотрели вблизи на этот фейерверк, называемый солнцем? Что это такое? Всего лишь картон, порох, деревянные спицы и железная проволока. Картон, который будет двадцать, сто, тысячу лет жить своей картонной жизнью. Грустная штука — жизнь картона! Будь он голубой, желтый, красный, или зеленый (цвет меня не смущает, меня устраивает любой), или серый, картонная жизнь гроша ломаного не стоит. Кстати, Шампольон[33] обнаружил картон в Египте, картон, который жил этой жизнью в течение трех тысяч лет (и продолжает ее сейчас под стеклом в музее). Любовь и радости картона, страдание и горе картона, представляете? Но подожгите картонный патрон на деревенской площади. Это же настоящее солнце. И все начнут кричать от восторга.
Уязвленная гордость. Она не замечает ничего, кроме себя; все вдребезги: семья и родина. Тристан поджигает самого себя, его кожа буквально трещит по всем швам, и Джульетта тоже, и Антоний, и Клеопатра, и все прочие. Каждый за себя. Я тебя люблю, и ты меня любишь. Это все прекрасно, но кто убедит меня в необходимости этих компромиссов, полумер и этих маленьких смертей, если из бездн моей печени всплывают доводы, которые убедительно говорят о необходимости быть?
Хватит шуток! Ему, как он полагает, оказали честь, расспрашивая его о холере; и теперь он готов ответить.
Загляните, заглянем в эти пять-шесть кубических футов плоти, которую вот-вот поразит холера, плоти, находящейся в продромальном периоде этого рака чистого разума, плоти, утомленной маневрами, к которым ее принуждает собственное серое вещество и которая внезапно начинает лихорадочно действовать по своим таинственным законам.
Что происходит в самом начале? Никто не может нам этого сказать. Вероятно, по совершенно гладкому океану со скоростью два узла в секунду проносится волна высотой в пятнадцать-двадцать метров и длиной в семьсот-восемьсот метров. И снова на водах царит весенняя безмятежность. Ни гула, ни пены, ни бурунов, ни горечи на этих безбрежных, глубоких и ничему не удивляющихся пространствах. Вода перемещается в воде, и нет возможности осознать это.
Все только началось, и ничего пока еще не изменилось. Адольф, Мари или Франсуа по-прежнему рядом с вами и вас любят (или вас ненавидят). Не прошло еще и минуты.
Он хотел, по его словам, дать хотя бы приблизительно (раз уж он, увы! не способен на большее) описание того, как человеческая душа постепенно утрачивает все радости. Даже воспоминание о них стирается из памяти. Он сравнил эти радости с птицами. Прежде всего перелетными, которые радуют самые разные страны в зависимости от времени года, и в первую очередь это знаменитые турухтаны. Клинья турухтанов несутся высоко в небе быстрее, чем гагары, ржанки, бекасы, зеленые утки и сероголовые дрозды.
Эти стаи, мчащиеся не к горизонту, а к зениту, заполняют небо, переливаются через край. Их столько, что небо страдает и задыхается.
Именно в этот момент на лице заболевшего холерой появляется столь характерное выражение изумления. Его жалкие радости угасают не от слабости, а от чего-то неумолимого, что гонит их за горизонт, где они и исчезают. О Боже! Адольф, или Мари, или Франсуа, что с тобой? А он просто подыхает, мягко говоря, подыхает от гордости. И отныне ему плевать на свою плоть и на плоть от плоти своей. Он реализует свою мысль.
Иногда, однако, рука вдруг вцепляется в фартук, в отворот пиджака, или в друга, или в подругу. Но оседлые птицы: воробьи, синицы, соловьи (обратите внимание, и соловьи! сколько людей наслаждается ими в майские ночи!) — все, кто питается отбросами, объедками, червяками и букашками — знай себе только прыгай на одном месте, — все оседлые радости снимаются с места. И тотчас взмывают вверх, выстраиваясь клиньями. Страх дает и силы, и умение. Сгущается мрак. Одного изумления уже недостаточно, человек качается и падает, где бы он ни находился: за столом, на улице, в любви или в ненависти; изумление сменяется чем-то очень личным, интимным и увлекательным.
Он считал, что Анджело являет собой почти безупречный тип предупредительного и обаятельного рыцаря. Вам удалось меня заинтересовать и даже, осмелюсь это сказать, очаровать такой малостью, как ваше отношение к проблеме штанов, а это удается далеко не всем. Что же касается мадемуазель, то он никогда не мог устоять перед такими изящными, напоминающими пику копья личиками. Но каков же конечный результат всего этого? Околосердечная сумка заполнена кровянистой жидкостью, клеточная ткань усеяна узелками, наполненными жидкой черной кровью, нижняя часть живота вспучена (запомните это слово), черная желчь, белые легкие и рыжие пенистые бронхи — все это говорит гораздо больше, чем тысяча лет философии. Так вот, именно в таком состоянии находятся внутренности Адольфа, Мари или Франсуа, покинутые птицами. Или ваши внутренности, если так вам больше нравится.