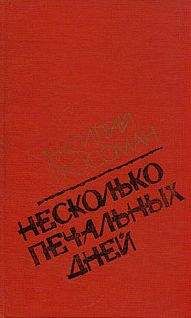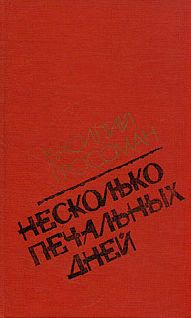Но я, конечно, заметил, что Кругляк пришел первым и что, кроме него, никто не принес одежды для пострадавшего.
– Ты чего так поздно? – ревниво спрашивал я.
Объяснения были веские: Мишка Семенов в этот день показывал свои картины художнику Фальку, естественно, от волнения, после демонстрации картин, он забегал в пивную и выпил пива. Тедька по воскресеньям обедал у дедушки – знаменитого медика, – эту традицию нельзя было нарушить. Мой друг Женька Думарский подготовлял в Ленинской библиотеке материалы к предстоящему докладу на математическом кружке. Позже всех явился Иван «шашнадцать лет не спамши с бабой» – Ваня выпивал с пригласившим его к себе заводским мастером и не мог обидеть простого человека, – распив пол-литра, надо и поговорить.
Естественно, что и вещей никто не привез для пострадавшего, – как известно, из Ленинской библиотеки валенок не прихватишь.
В общем, мы вдоволь посмеялись над Кругляком. Смешным было и окончание этой истории – все пошли в пивную слушать Морозову, а разыгранный Кругляк потащился со своим узлом домой.
Он обругал нас матерными словами, но чувствовалось, что он не очень рассержен.
– Я об одном жалею, – сказал он, – у Эсфири был такой прекрасный бульон, и я его не скушал.
Но вот и кончились годы ученья, и ушли в прошлое университетские лаборатории, ночные прогулки, студенческие споры, веселые и умные субботы, огни вечерней Москвы и та хмельная и светлая легкость, которая вдруг, неожиданно, то темным осенним утром, то холодной январской ночью заполнит тебя всего ощущением самого высшего счастья – бессмысленного и беспричинного.
Друзья мои остались в Москве, а я жил в шахтерском поселке, месил ногами липучую грязь, шел мимо черных гор глея по недоброй земле; а осеннее небо было таким тяжелым, холодным, что, поднявшись в клети после долгих часов, проведенных в шахте, я не радовался воздуху поверхности.
Я очень, очень тосковал. У меня не только болели зубы, и не только мучило меня одиночество. В душе моей стояла смута. Юношей я решил освободить внутриатомную энергию, а еще раньше, мальчишкой, мне хотелось создать в реторте живой белок. Не сбылось.
Ночью, в бессонницу, мучаясь от зубной боли, я думал о Москве. Да было ли все это! Были ли разговоры Думарского об энтропии и его остроты, которые хотелось записывать, стихи Киплинга: «…пыль, пыль, пыль от шагающих сапог…» Ванька, читавший угрюмым басом: «Черный человек… черный человек…», пальцы молодого пианиста, бегущие по клавишам, и слезы на глазах от чудной музыки, громовое пение Мишки Семенова: «Ах, зачем ты меня целовала» и его отчаянные, как у Митеньки Карамазова, поступки – однажды он приставил к виску револьвер: «В мире, обреченном тепловой смерти, жить не желаю»; Думарский толкнул его руку в тот момент, когда он спускал курок, и пуля, окровавив буйную голову Мишки, ударила в потолок.
А майские светлые ночи, вестницы петербургских белых ночей!
Было, было все это, конечно, было. Та, московская, жизнь продолжалась. Но я вылетел из нее.
Видимо, я заболел. По ночам, когда, на время помилованный зубной болью, я засыпал, голова моя делалась мокрой от пота, волосы слипались, и капли пота текли по лбу; я просыпался не от зубной боли, а от того, что холодные струйки щекотали мое лицо, шею, грудь. Я стал желтеть, зеленеть, температурить, кашлять. С утра я чувствовал себя утомленным, вялым. В шахтерской больнице меня взяли «на лучи» и оглушили диагнозом: «Оба легких сплошь покрыты свежими туберкулезными бугорками».
Туберкулез, чахотка, бугорчатка…
Я сидел ночью на своем матраце, курил, кривился от зубной боли и перечитывал написанный докторскими каракулями приговор. А жена все не ехала ко мне и уже третью неделю не отвечала на мою телеграмму.
Мне в эти дни стало совершенно невыносимо тяжело, и я решил написать Думарскому – ведь мы с ним учились вместе с младшего приготовительного класса. Писал письмо я долго, несколько вечеров, написал обо всем – и о своей тоске, и о болезни. Письмо было таким печальным, что я плакал над ним, но все же мне стало легче.
Так хорошо было смотреть на конверт с надписанным адресом: «Москва, Петровка, 10…»
Конечно, я поступил правильно, написав именно Думарскому, матери я не смел написать о своем отчаянии, она бы заболела с горя, прочтя письмо. Следовало написать другу, мужчине, товарищу детства. И я так сделал.
Я стал ждать ответа, рассчитал дни, накинул пять льготных дней, потом еще пять, у меня был опыт в этих делах при переписке с женой, но ответ не пришел. Я огорчился, почувствовал себя оскорбленным, потом я решил, что письмо мое затерялось, потом я решил, что затерялся ответ Думарского, и в конце концов успокоился, забыв обо всем этом.
Как– то в конце лета я сидел после работы на крыльце, покуривал, смотрел на закат. В дымном воздухе Донбасса закаты бывают удивительно красивые, а зубы у меня не болели, и я мог любоваться тихим вечером, небесным заревом, вставшим над пустынной улицей шахтерского поселка.
Вдруг я увидел совершенно необычную для нашего поселка фигуру – человек в клетчатом пальто, с желтым чемоданом в руке шел на фоне наших заборов и сортирчиков с устремленными в небо деревянными трубами, над ними в высоте стояли полные багрового света облака. Человек вглядывался в номера домов. Это был Кругляк.
Господи боже мой, до чего же я был рад ему.
Странно, но именно его я почти не вспоминал в свои бессонные ночи.
Прошло тридцать лет. Я уже давно живу в Москве, не занимаюсь химией, а внутриатомную энергию без моего участия поставили на службу людскому горю и людскому счастью.
Молодой фосфор не подкачал, друзья моей юности много поработали за эти тридцать лет. Конечно, мы не встречались так часто, как прежде, – работа, семья, дети, да что дети – внуки!
И все же мы виделись не только по праздникам, не только в дни рождений. Иногда Думарский внезапно звонил мне, как в молодые времена: «Послушай, есть два билета на концерт Бостонской филармонии, пошли?» А после концерта мы по старинке переглядывались: «В ресторанчик?» А после мы гуляли по ночному Тверскому бульвару и разговаривали. Говорили о семейных делах, о политике, часто говорили о наших друзьях.
Как– то, еще до войны, я вспомнил про письмо, написанное мной Думарскому из Донбасса:
– Получил ли ты его?
Он кивнул – да.
– Как же ты не ответил!
– Видишь, пороху, что ли, не хватило, прости уж.
Я простил. Конечно, случалось, что это происшествие
припоминалось мне, но я простил.
Не вышла жизнь у одного лишь Кругляка, он не стал ни знаменитым конструктором, ни известным всему миру пианистом, ни академиком, не строил ледоколов.
Он стал цеховым химиком, да и работа цехового химика у него не ладилась. Всем нам казалось, что он человек покладистый, мягкий, а он постоянно вылетал со службы, не уживался с начальством. Незадолго до войны его снова уволили с завода, и он никак не мог устроиться, но в конце концов получил какое-то совсем уж захудалое место.
Когда его спрашивали: «Где ты все же работаешь?» – Кругляк, усмехаясь, отвечал: «Э, артель „Напрасный труд“, – и махал рукой.
Началась война, и все мы приняли в ней участие. Думарский руководил в институте механики разработкой сложных математических вопросов, играющих большую роль при расчетах прочности скоростных самолетов. Иван «шашнадцать лет не спамши с бабой» в звании полковника выполнял особые задания Комитета обороны, связанные с танкостроением; к началу войны он, несмотря на свое прозвище, был отцом четверых детей; я стал штабным работником, носил погоны подполковника; даже наш Теодор в майорской форме давал концерты в армейских госпиталях. Единственный из нас провоевал рядовым, в расчете зенитного артиллерийского орудия, Кругляк – лишь к самому концу войны он получил сержантские лычки и был демобилизован после ранения. Закончил он службу без большой славы – не получил даже медали «За боевые заслуги».
Нас это смешило, а в душе смущало, особенно когда он рассказал о жуткой по трудности солдатской службе. Все мы, и не нюхавшие подобного, получили немало военных орденов.
Но меня особенно тронула одна совершенная, в общем, мелочь. Наши семьи в 1941 году уехали в эвакуацию. В моей опустевшей квартире осталась старушка няня, Женни Генриховна, эстонка с острова Эзель. Это было доброе и никчемное существо, в черном длинном платье с белым воротничком, с маленьким румянцем на маленьких старушечьих щеках.
На второй год войны Женни Генриховна стала опухать и отекать от голода, честность ей мешала продавать хозяйское барахло. Она попробовала обратиться за помощью к моим друзьям – кое-кто из них был в Москве, кое-что ей обещали, но в военной суете и горячке, видимо, забыли, а она по робости не решилась вторично о себе напомнить. В это время зенитная батарея, в которой служил Кругляк, охраняла какой-то военный объект под Москвой. Однажды он пришел к нам на квартиру узнать, есть ли новости обо мне. Старуха ему не сказала о своем бедственном положении, ей казалось невозможным обращаться за помощью к солдату в кирзовых сапогах.