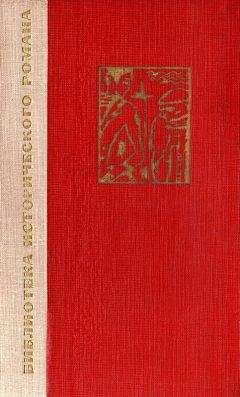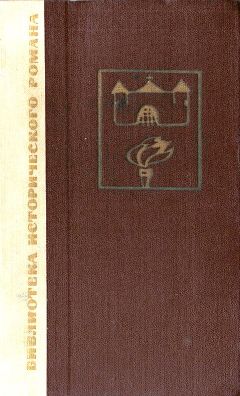Его подвели к краю колодца, куда подошла и улыбавшаяся донья Консоласьон. Несчастный бросил взгляд, полный зависти, на груду трупов, и из его груди вырвался стон.
— Не упрямься, — снова повторил секретарь, — все равно тебя повесят; по крайней мере умрешь без таких мучений.
— Отсюда тебя поведут на казнь, — сказал ему один из стражников.
У Тарсило вынули изо рта кляп и подвесили за ноги. Его должны были опустить в колодец головой вниз и продержать некоторое время под водой, как это делают с ведром, с той лишь разницей, что голова человека остается под водой несколько дольше.
Альферес пошел взять часы для отсчитывания минут.
Тем временем Тарсило висел вниз головой, его длинные волосы развевались по ветру, глаза были полузакрыты.
— Если вы христиане, если у вас есть сердце, — умоляюще прошептал он, — ударьте меня об дно или разбейте мне голову о стену, чтобы я сразу умер. Бог наградит вас за доброе дело… Кто знает, может, и вас когда-нибудь постигнет такая же участь!
Альферес возвратился с часами в руках и распорядился начать экзекуцию.
— Тише! Тише! — кричала донья Консоласьон, провожая несчастного взглядом. — Осторожно!
Конец рычага медленно опускался; Тарсило ударялся о выступавшие камни, сдирал телом вонючую плесень, покрывавшую расщелины. Но вот движение рычага приостановилось; альферес начал отсчитывать секунды.
— Поднимай! — резко приказал он через полминуты сержанту.
Мелодичный, серебристый звон падающих капель возвестил о возвращении преступника на свет божий. Противовес на другом конце рычага был тяжелей, поэтому подъем шел быстро. Мелкие камни отрывались от стенок колодца и с шумом падали вниз.
Взорам притихших зрителей предстало мокрое тело, с которого струилась вода, лицо в ранах и ссадинах, волосы и лоб, облепленные отвратительным илом; дул порывистый ветер, и узника бил озноб.
— Будешь говорить? — спросили его.
— Позаботься о моей сестре! — прошептал несчастный, умоляюще глядя на одного из стражников.
Снова заскрипел тростниковый рычаг, и осужденный скрылся в колодце. Донья Консоласьон отметила про себя, что поверхность воды очень быстро успокоилась. Альферес отсчитал минуту.
Когда Тарсило появился над колодцем, все увидели, как исказилось и помертвело его лицо. Застывшие, налитые кровью глаза глядели на присутствующих.
— Будешь говорить? — хмуро спросил альферес.
Тарсило отрицательно качнул головой, и его опять стали опускать. Веки юноши медленно закрывались, но зрачки были устремлены к небу, где плыли белые облака; он выгнул шею, чтобы дольше видеть солнце, но тут же погрузился в воду, и грязная завеса скрыла от него светлый день.
Прошла минута; Муза, неотступно наблюдавшая за водой, заметила, что со дна поднимаются большие пузыри.
— Он хочет пить! — сказала она со смехом.
Но вот поверхность воды снова стала гладкой.
На этот раз альферес подал знак поднимать через полторы минуты.
Лицо Тарсило уже не было сведено судорогой, из-под полуоткрытых век виднелись белки глаз, изо рта текла мутная вода, смешанная с кровью; по-прежнему дул холодный ветер, но тело арестанта уже не вздрагивало.
Присутствующие молча переглянулись, они были бледны и подавлены. Альферес махнул рукой, чтобы Тарсило отвязали, и, нахмурив брови, отошел в сторону. Донья Консоласьон ткнула несколько раз горящим концом своей сигары в голые пятки юноши, но он не шевельнулся, а сигара погасла.
— Он сам себя прикончил! — прошептал один стражник. — Смотрите, как он язык подвернул, будто проглотить хотел.
Второй арестант смотрел на происходящее, дрожа и обливаясь холодным потом; глаза его блуждали как у безумного.
Альферес поручил секретарю вести допрос.
— Сеньор, сеньор! — простонал узник. — Я скажу все, что вы хотите.
— Ладно, посмотрим. Как тебя зовут?
— Андонг, сеньор!
— Бернардо… Леонардо… Рикардо… Эдуардо… Ну, как?
— Андонг, сеньор! — повторил дурашливый парень.
— Запишите, «Бернардо» или что-нибудь в этом роде, — решил альферес.
— Фамилия?
Парень в ужасе уставился на него.
— Какое еще имя прибавляют тебе к имени Андонг?
— А, сеньор! Андонг Дурачок, сеньор!
Окружающие не могли удержаться от улыбки; сам альферес, расхаживавший по двору, замедлил шаг.
— Занятие?
— Сборщик кокосов, сеньор, и работник у тещи.
— Кто приказал вам напасть на казармы?
— Никто, сеньор!
— Как никто? Не лги, или тебя бросят в колодец! Кто вами командовал? Говори правду!
— Правду, сеньор!
— Кто?
— Кто, сеньор!
— Я тебя спрашиваю, кто вас подговорил делать революцию?
— Какую революцию, сеньор?
— Да вот эту, ты же был вчера вечером во дворе казарм.
— Ах, сеньор! — покраснев, воскликнул Андонг. — Моя теща, сеньор!
Его слова были встречены взрывом смеха. Альферес остановился и взглянул, не очень сурово, на несчастного, который, думая, что произвел хорошее впечатление, продолжал, приободрившись:
— Да, сеньор: теща дает мне на обед одно гнилье да отбросы. Вчера вечером шел я домой, а у меня вдруг живот схватило; увидал я поблизости двор казармы и говорю себе: уже темно, никто не увидит. Вошел… а когда присел, услыхал выстрелы; я стал завязывать штаны…
Сильный пинок прервал его на полуслове.
— В тюрьму! — приказал альферес. — Сегодня после полудня отправить в столицу!
Вскоре по селению распространилась весть, что арестантов увезут. Сперва все онемели от ужаса, потом послышались причитания и слезы.
Родственники арестантов бегали как сумасшедшие от монастыря к казармам, от казарм к зданию суда и, не находя нигде сочувствия, громко кричали и стонали. Священник заперся, сказавшись больным. Альферес выставил усиленную охрану, и солдаты отгоняли прикладами моливших о милосердии женщин. Префект, это никчемное существо, казался еще более глупым и беспомощным, чем обычно. Перед тюрьмой метались те женщины, у которых еще были силы. Другие в изнеможении опускались на землю, шепча дорогие имена.
Солнце палило немилосердно, но никто из этих несчастных не думал уходить. Дорай, некогда счастливая и веселая супруга дона Филипо, бродила в полном отчаянии, держа на руках маленького сына и плача вместе с ним.
— Уходите, — говорили ей, — вашего сынишку хватит солнечный удар.
— Зачем ему жить, если у него не будет отца, который бы о нем заботился? — в отчаянии отвечала женщина.
— Ваш муж невиновен; может быть, он еще вернется!
— Да, но мы-то до этого не доживем.
Капитанша Тинай лила слезы и звала своего сына Антонио; мужественная капитанша Мария смотрела на маленькое решетчатое окошко, за которым томились оба ее близнеца, ее единственное утешение.
За решеткой была и теща сборщика кокосов; она не плакала, а разгуливала с засученными рукавами и говорила окружающим:
— Видали что-либо подобное? Арестовать моего Андонга, пустить в него пулю, засадить в сепо и отправить в столицу только за то… что у него новые штаны? Это им так не пройдет! Жандармы злоупотребляют своей властью! Клянусь, если кто-нибудь из них опять будет искать укромное местечко в моем саду, как это не раз бывало, я его изуродую, изуродую! Или… пускай меня изуродуют!
Но лишь немногие вторили по-мусульмански мстительной теще.
— Во всем виноват дон Крисостомо, — вздохнула одна женщина.
Школьный учитель тоже бродил как потерянный в толпе. Ньор Хуан уже не потирал руки, не размахивал отвесом и метром: он был во всем черном, так как до него дошли дурные вести, и, верный своей привычке смотреть на будущее как на совершившееся, он надел траур по Ибарре.
В два часа дня открытая повозка, запряженная двумя быками, остановилась перед зданием суда.
Люди окружили быков и хотели отпрячь их, а повозку разбить.
— Не делайте этого, — сказала капитанша Мария. — Хотите, чтобы они шли пешком?
Ее слова охладили пыл родственников. Вышли двадцать солдат и оцепили повозку. Затем появились арестанты.
Первым шел связанный дон Филипо; он, улыбнувшись, кивнул жене. Дорай горько зарыдала и бросилась вперед, чтобы обнять мужа; два жандарма с трудом удержали ее. Антонио, сын капитанши Тинай, всхлипывал, как ребенок, отчего крики матери стали еще отчаяннее. Дурачок Андонг залился слезами при виде тещи, виновницы его несчастий. Альбино, бывший семинарист, тоже шел со связанными руками, как и оба близнеца капитанши Марии. Все трое были строги и молчаливы. Последним вышел Ибарра, на нем не было наручников, но по обе стороны от него шли два жандарма. Юноша был бледен, он искал глазами друзей.
— Это он виноват! — раздались многочисленные голоса. — Он виноват, а его не связали!
— Мой зять ничего не сделал, а на нем наручники!