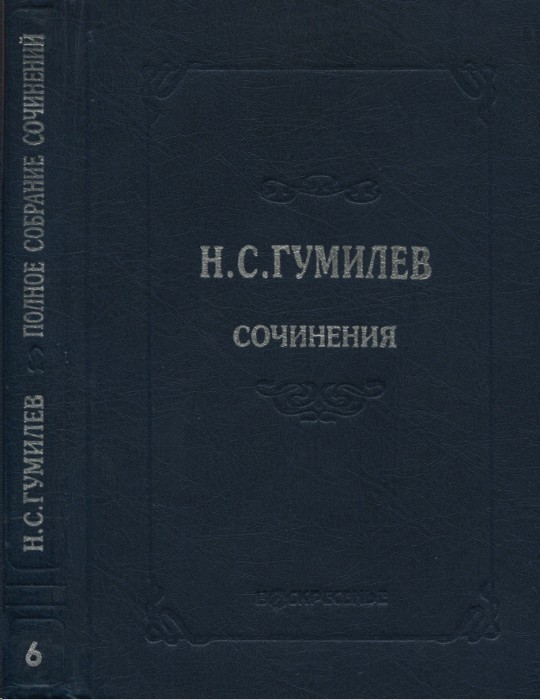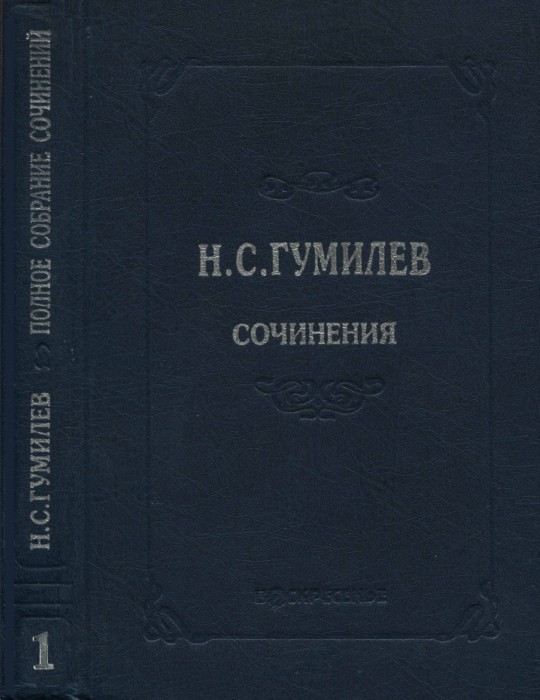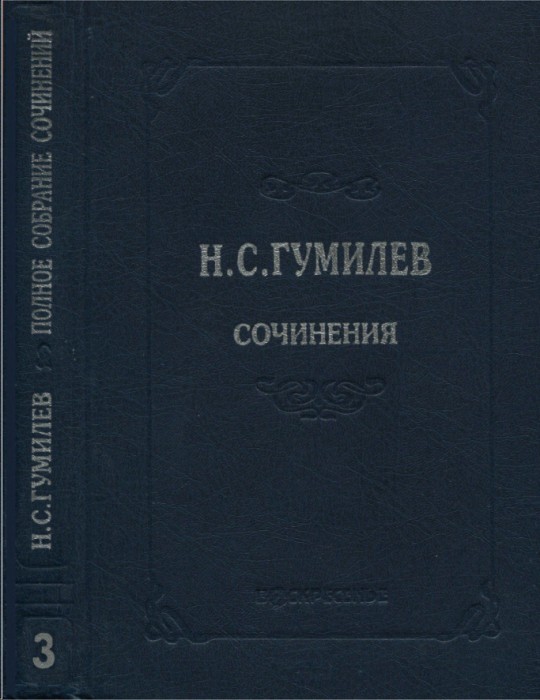В шестом томе Собрания сочинений Николая Степановича Гумилева собрана его художественная проза, воскрешающая в русской словесности XX века пушкинские традиции «прозы поэта». Повесть «Веселые братья» впервые публикуется в авторской сюжетной версии.
женских формах — Лилит является их прототипом в еврейских преданиях — называются в Эзотерических изложениях Кхадо..., всем им приписывается способность «летать по воздуху» и «великая доброта к смертным»; но они не обладали разумом — лишь животным инстинктом» (Тайная доктрина II (3). С. 356). Стр. 231–234 — «Не все люди стали воплощениями «Божественных Восставших», но лишь некоторые из них <...> что и объясняет великую разницу между умственными способностями людей и рас» (Тайная доктрина II (3). С. 131). Стр. 235–237. — «Эта раса могла одинаково легко жить в воде, воздухе или в огне, ибо она обладала неограниченным контролем над элементами. <...> Это были они, кто передал людям самые чудесные тайны Природы и открыли им неизреченное и ныне утерянное “слово”» (Тайная доктрина II (3). С. 276). Стр. 241–245. — «Вода есть порождение Луны, андрогинного Божества среди всех народов. <...> Отсюда и приливы и притяжения к Луне, как это выявляется жидкой частью нашего Земного Шара, постоянно стремящейся подняться к своей родительнице» (Тайная доктрина II (3). С. 83). Стр. 246 — ср. со ст. 59–60 и 89–90 ст-ния «Смерть Адама» (№ 161 в т. I наст. изд.). Стр. 266–267 — имена гостей Тремограста строятся на сложной словесной игре. Эгаим — производное от латинского «эго» — «я» и еврейского «элохим», множественного числа от «эл» — Бог. «Сама эта [множественная] форма, согласующаяся в Библии почти всегда с глаголами и прилагательными в единственном числе, выражает, скорее, значение квинтэссенции, высшей степени качества, полноты божественности в лице единого Бога, вобравшего в себя всех, до того бывших богов (ср. «Бог богов» — «ĕlōhê hāĕlōhîm» — Втор. 10:17). Подобная форма множественного числа слов — обозначений Бога встречается в других, более древних семитских мифологиях, например, в аккадской, где она свидетельствовала о предпочтении данному богу среди других богов; однако в русле иудаистского монотеизма такая форма была переосмыслена как обозначение единого Бога» (Мифологический словарь. С. 633). В совокупности всех смыслов «эгаим» означает и «Я — Бог», что восходит к свидетельству Иисуса о Себе в синедрионе (Мк. 14:61–62; Лк. 22:70), а также указывает на Него, как на Того, Кому отдаются предпочтения среди возможных «богов». Элаи — производное от еврейского «эл» — Бог и звукосочетания «аи», которое в символической «глоссолалии» Гумилева, отчасти раскрытой в его ст-нии «На далекой звезде Венере...» (№ 61 в т. IV наст. изд.), означает «радостное обещанье» (см. ст. 13–14). В совокупности всех смыслов «элаи» означает «радостное обещанье Бога», что позволяет видеть в этом герое Иоанна Предтечу. Возможно, что источником для Гумилева послужил роман Д. С. Мережковского «Леонардо да Винчи» (1901), с которым Гумилев был безусловно знаком (юный поэт ценил творчество этого «мэтра» и в январе 1907 года пытался войти в «круг Мережковских» в качестве «неофита» (см.: ЛН. С. 426–428)). В заключительной части романа большую роль играет леонардовское изображение Иоанна в «дионисийской» атрибутике: «Глубина картины напоминала мрак той Пещеры, возбуждавшей страх и любопытство, о которой некогда рассказывал он моне Лизе Джоконде. Но мрак этот, казавшийся сперва непроницаемым, — по мере того, как взор погружался в него, делался прозрачным, так что самые черные тени, сохраняя всю свою тайну, сливались с самым белым светом, скользили и таяли в нем, как дым, как звуки дальней музыки. И за тенью, за светом являлось то, что не свет и не тень, а как бы “светлая тень” или “темный свет”, по выражению Леонардо. И, подобно чуду, но действительнее всего, что есть, подобно призраку, но живее самой жизни, выступало из этого светлого мрака лицо и голое тело женоподобного отрока, обольстительно прекрасного, напоминавшего слова Пентея: “Длинные волосы твои падают по щекам твоим, полные негою; ты прячешься от солнца, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Афродиту”. Но если это был Вакх, то почему же вместо небриды, пятнистой шкуры лани, чресла его облекала одежда верблюжьего волоса? Почему вместо тирса вакхических оргий держал он в руке своей крест из тростника пустыни, прообраз Креста на Голгофе, и, склоняя голову, точно прислушиваясь, весь — ожидание, весь — любопытство, указывал одной рукой на Крест, с не то печальной, не то насмешливой улыбкой, другой — на себя, как будто говорил: “Идет за мной сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его”». У Мережковского на создание такой версии изображения Иоанна Леонардо натолкнули выписки из Священного Писания в дневнике его покойного ученика Бельтраффио: «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божием. Я есмь виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Кровь Моя истинно есть питие. Пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (см.: Мережковский Д. С. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 265–266). «Дионисийские» мотивы в изображении спутника Эгаима, который «перекладывает в песни» открытые Эгаимом «тайны», ассоциируют этот образ также и с Орфеем (см. комментарии к №№ 6 и 10 наст. тома). Сочетание «дионисийского» начала с христианским, вероятно, навеяно в повести Гумилева и трактатом Вяч. И. Иванова «Эллинская религия страдающего бога», публиковавшимся в 1904 г. в журнале Мережковских «Новый путь». Стр. 292–294 — аллюзия на слова Иисуса во время Его вшествия в Иерусалим: «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! Запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19:37–40). Предание же с плачущими от пения Орфея камнями — широко известно (см. комментарии к №№ 6 и 10 наст. тома). Стр. 296–303 — в песне Элаи отражен мотив оккультной аллегории «земли-коровы», которая, «дрожа от ужаса», спасается бегством от преследующей ее Луны «в области Брамы» (см.: Тайная доктрина I (2). С. 491). Однако в общем смысловом контексте образ Луны здесь проецируется уже в сферу христианской символики, где «ночное светило» аллегорически уподобляется «христианам до христианства», т. е. всем тем, кто в языческую эпоху «жаждал» Истины и стремился к Ней, а также упоминается в Апокалипсисе (Отк. 12:1) среди атрибутики «Жены, облеченной в Солнце», т. е. Богородицы. Стр. 304–316 — сцена «призвания» Тремограста вовлекает читателя в