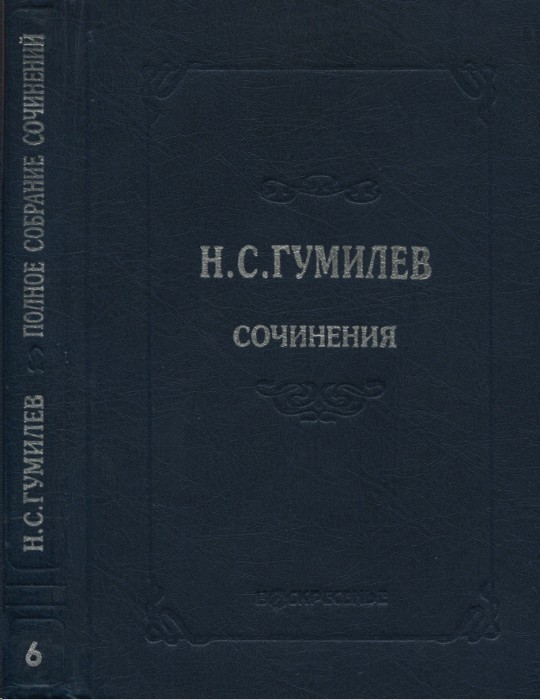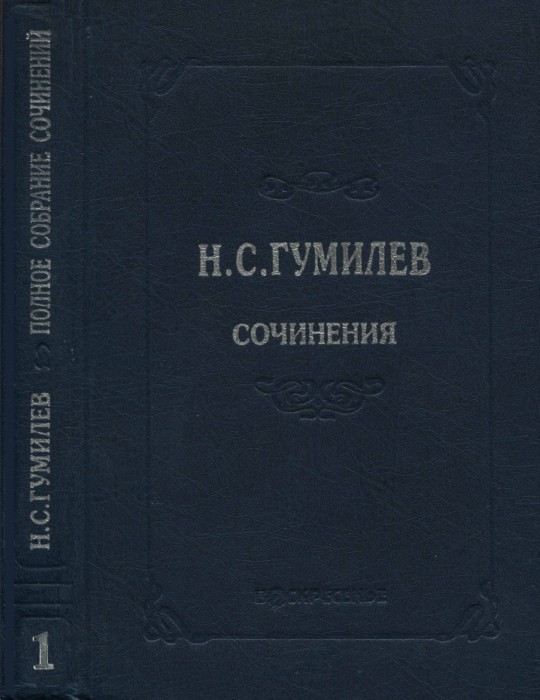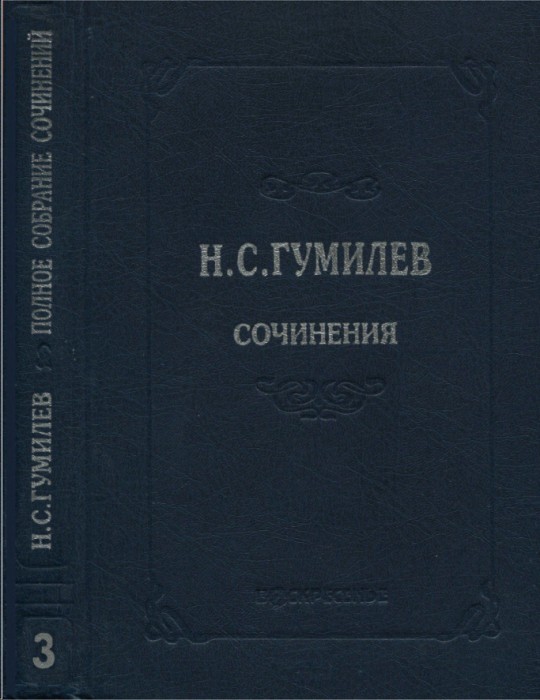очень сложную (и рискованную) герменевтическую «игру», позволяющую судить о той религиозно-философской эклектике, которая царила в сознании будущего основателя акмеизма во время создания «Гибели обреченных». Сравнение Эгаима с «мудрой священной змеей» сразу же вызывает откровенно дуалистические ассоциативные ряды. С одной стороны символика «змея» была связана с ветхозаветной эмблематикой Христа: в змея превращается жезл Моисея (Исх. 4:3), Моисея и Аарона (Исх. 7:9–12), вознесением Медного Змея Моисей спасает израильтян в пустыне (Числ. 21:8–9; образ Медного Змея считается символом, пророчествующим о крестной жертве Христа). Сам Иисус повелевал Своим ученикам: «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). С другой стороны неизбежно возникает и ассоциация с Едемским змием-искусителем (Быт. 3:1–14), проклятым Творцом, но обожествляемом в качестве носителя Божественного Знания в древних гностических сектах (офитов и др.) и в таковом же качестве выступавшим в трудах деятелей «оккультного возрождения»: «Змий — предмет отвращения и поклонения, и люди питают к нему либо беспощадную ненависть, либо преклоняются перед его мудростью. Ложь взывает к нему; осторожность заявляет на него права; зависть носит его в сердце, красноречие на своем жезле. В аду он превращается в бич фурий; на небесах вечность делает его своим символом (Шатобриан)» (см.: Тайная доктрина I (2). С. 498, а также указание, что «Змей и Дракон были наименования, даваемые Мудрецам, Посвященным Адептам древних времен» (Тайная доктрина I (2). С. 499)). Слова Эгаима «ты можешь быть князем земли» также ассоциативно-двойственны. Если учесть происхождение имени Тремограста от «камня», то здесь можно усмотреть аллюзию на исповедание Петра и дарованную ему затем власть «вязать и разрешать» на земле (Мф. 16:19). С другой стороны «князем мира сего» Иисус называет Сатану на Тайной Вечере (Ин. 14:30), а «все царства мира и славу их» Сатана предлагал Иисусу, искушая Его (Мф. 4:8–9). Наконец призыв «подняться на вершины и победить богов», созвучный известному лейтмотиву романа Ницше, устанавливает ассоциативную связь и с его Заратустрой. Стр. 338–346 — ср. со ст-нием «На льдах тоскующего полюса...» (№ 131 в т. I наст. изд.):
Из двух соблазнов что я выберу,
Что слаще — сон иль горечь слез?
Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю,
Явился в облаке Христос.
Он превращает в звезды горести,
В напиток солнца жгучий яд
И созидает в мертвом хворосте
Никейских лилий белый сад.
Упоминаемый корень мандрагоры в магических ритуалах многих народов всегда был связан с темной демонической силой, могущей навредить тому, кто его вырвал из земли, если тот не является колдуном; на Эгаима власть бесов не распространяется. Стр. 370–377 — чудо, совершенное Эгаимом, символично, если учесть «преображение» Тремограста, ставшего после призвания его Эгаимом «задумчивым» и «непривычно застенчивым»: дикий бык в бестиарной символике ассоциировался с плотским началом бытия, был воплощением слепой телесной стихии. Стр. 384 — на этом повествование обрывается; возможно, на замысел финала повести «Гибели обреченные» может пролить свет финал рассказа «Дочери Каина», очевидно перекликающегося с ней по затронутой религиозно-философской тематике «проклятых рас Каина».
2
Сириус. 1907. № 2 (подп. А. Грант). Текст, изобилующий пунктуационными ошибками и грамматическими двусмысленностями, приведен к современной языковой норме; исключением является фрагмент, который может быть интерпретирован как особенность авторского стиля (в стр. 62 вместо «эта» стоит «это»).
Гумилевские чтения 1984, Соч II, СС 2000, АО, Проза поэта, Мистика серебряного века.
Дат.: февраль 1907 г. — по времени выхода № 2 журнала «Сириус» (Исследования и материалы. С. 314–315).
Художественный очерк «Карты», увидевший свет во втором номере журнала «Сириус» современниками Гумилева замечен не был. Переиздан он был лишь семьдесят семь (!) лет спустя в издании «Гумилевских чтений» 1984 г., однако и новейшее гумилевоведение эту публикацию фактически проигнорировало. Отчасти это объясняется тем, что «болтовня Анатолия Гранта» воспринималась до сих пор как модернистская стилизация на тему «гадательных книг», написанная «к случаю» для заполнения пустующих страниц «Сириуса», так и не получившего поддержки в профессиональных литературных кругах (в чем Гумилев с горечью признавался Брюсову в письме от 11 марта 1907 года (см.: ЛН. С. 432; см. об издании «Сириуса» вступительную статью к разделу «Комментарии»). Между тем, мотив собственно «карт» оказывается второстепенным и, в какой-то мере, случайным в очерке, который является художественным манифестом Гумилева-символиста, первым во времени программным заявлением поэта и потому должен рассматриваться в его творчестве в ряду таких произведений, как «художественный манифест акмеизма» — пьеса «Актеон» (см. № 4 в т. V наст. изд. и комментарии к ней) и знаменитая статья «Наследие символизма и акмеизм».
Очерк «вынашивался» поэтом в те несколько первых «парижских» месяцев (июль-декабрь 1906 г.), когда новоиспеченный студент Сорбонны переживает страстное увлечение оккультными учениями и «художественным мистицизмом» символизма (эти понятия сливались в его творчестве того времени воедино). Он пытается, правда большей частью без особого успеха, завести знакомства с крупнейшими авторитетами «новой школы» в тогдашнем «русском Париже» — Мережковскими, Бальмонтом, Вяч. И. Ивановым, М. А. Волошиным (см.: Соч III. С. 353–354; ЛН. С. 416 и комментарии на с. 419), знакомится с доктором Папюсом (см. комментарий к № 3) и даже участвует в рискованных магических экспериментах. «Помню, как он однажды очень серьезно рассказывал о своей попытке вместе с несколькими сорбоннскими студентами увидеть дьявола, — вспоминала О. Л. Делла-Вос-Кардовская, автор известного портрета Гумилева 1908 г. — Для этого нужно было пройти через ряд испытаний — читать каббалистические книги, ничего не есть в продолжение нескольких дней, а затем в назначенный срок выпить какой-то напиток. После этого должен был появиться дьявол, с которым можно было вступить в беседу. Все товарищи очень быстро бросили эту затею. Лишь один Н. С. проделал все до конца и действительно видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру» (Жизнь Николая Гумилева. С. 31–32). Стихотворениями, насыщенными оккультной символикой, полны его письма к Брюсову этой поры (см.: ЛН. С. 415–426).
По совершенству стиля, строгой композиционной логике, точности и содержательной емкости выдвигаемых положений и художественной изысканности плана их выражения очерк «Карты» непосредственно предвосхищает гумилевский «манифест акмеизма» (притом что статья «Наследие символизма и акмеизм», конечно, содержательно антитетична «Картам»). Возможно, на стилистическое решение данного текста повлиял цикл афоризмов О. Бердслея «Застольная болтовня», русский перевод которого был помещен в № 11 «Весов» за 1905 г. («бердслеевский» блок материалов, помещенных в этом № «Весов» является одним из важнейших источников очерка). На это указывает подзаголовок, помещенный в оглавлении № 2 «Сириуса» — «Карты. Causerie (фр. «болтовня»