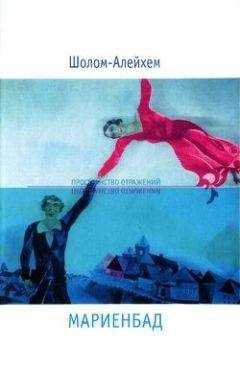Твое письмо получил. Что касается твоих утверждений относительно Карлсбада, будто Карлсбад лучше Мариенбада, то я уже много раз тебе говорил, что Карлсбад не годится по целому ряду причин. Во-первых, Карлсбад, насколько я могу судить, трезво рассуждая, – это место для больных, для людей, страдающих настоящими болезнями, преимущественно желудочными. Отсюда следует, что там женихов быть не может, так как, я полагаю, с желудками возятся люди пожилые, а не молодые парни. Во-вторых, я вообще не слыхал, чтобы в Карлсбаде заключались солидные браки, как ты утверждаешь. А тот, кто сказал тебе, будто в Карлсбад съезжается весь свет, – либо лгун, либо глупец. А когда я говорил о Мариенбаде, то имел к тому разумные причины, я не сумасшедший и знаю, что говорю. И хотя я лично в Мариенбаде никогда не бывал, я все же понимаю, что Мариенбад – место развлечений и роскоши. Стало быть, туда едут люди, которые чувствуют себя или не совсем хорошо, или, наоборот, слишком хорошо и имеют своей целью немного похудеть, как скажем, наш Хаим Сорокер, наживший себе телеса. И, наконец, желающие доставить себе удовольствие, полюбоваться на божий мир и тому подобные. А среди людей такого рода подыскать приличного жениха гораздо легче, чем в другом месте.
А то, что ты пишешь насчет докторишек, которых будто бы на Налевках можно достать по десять тысяч рублей за штуку, то ты, извини пожалуйста, очень ошибаешься. Этот товар у нас в Варшаве в последнее время в большой цене, и такой докторишка, как ты говоришь, требует, по нынешним временам, чтобы ему уплатили двадцать тысяч, а то и тридцать тысяч, и не меньше. Да оно и понятно: чем больше запрещений[4] сыплется за грехи наши на головы еврейских детей в гимназиях, университетах и т. п., тем дороже становятся доктора и адвокаты. И если запреты будут продолжаться и впредь, то кто может знать, до чего дойдут цены!
А с тем, что ты пишешь насчет женихов из купеческого звания, будто они вздорожали, я опять-таки не согласен. Наоборот, я полагаю обратное, и это также логично и естественно, ибо купцов полным-полно везде и всюду. Поэтому я, по трезвому своему разумению, не вижу, зачем тебе нужно было гнаться за сватовством с лодзинским фабрикантишкой. Таких фабрикантов можно достать и здесь. Ни к чему ездить за ними в Мариенбад. А если он к тому же не совсем здоров, то тем более все это дело ничего не стоит.
А то, что ты пишешь насчет белосточанина, то я также не понимаю, почему ты сомневаешься и колеблешься. Одно из двух: если ты хочешь узнать, кто с кем развелся – он с ней или она с ним, сообщи мне его имя, я напишу своему доверенному в Белостоке и буду знать решительно все, что требуется. Меня удивляет, что ты сама не додумалась до этого, – мир открыт для всех, а Варшава и Белосток все равно что один город.
«Последний – самый любимый». То, что ты пишешь относительно кишиневца из Кишинева, мне кажется наиболее подходящим, так как бессарабцы мне больше по душе, нежели литваки. Я и сам бессарабец, и мне хотелось бы породниться с бессарабцем, тем более если они из Кишинева, который расположен недалеко от села Ямайки. Я могу написать в Ямайку моим родственникам, чтобы они разузнали все подробно об этом кишиневце. Так что прошу непременно написать мне имя, фамилию и все о его семье, и пусть Бог поможет, чтобы все было благополучно, потому что пора… Сжалился бы Господь, помог бы выдать дочерей, тогда можно было бы подумать об остальных детях. Пока сын мой Яков, да здравствует он, учится усердно, готовится со своим репетитором к экзамену. Да поможет ему Бог сдать благополучно, ибо выглядит он как черт. Хотя я и не знаю, что будет дальше, даже если он сдаст свои экзамены. Но как бы там ни было, если уж не учиться в хедере и покончить с еврейством, то пусть у него будет хоть какой-нибудь аттестат, авось пригодится. Я бы, конечно, предпочел, чтобы сын мой Яков, да здравствует он, был купцом. Но если нынче главное в жизни – аттестаты и дипломы, то пусть и у него будет диплом, хотя бы за шесть классов. А сын мой Мендл, да здравствует он, тоже уже не желает ходить в хедер, а чтоб молиться – об этом и думать нечего! Я говорил с учителем. Он берется за два года подготовить его за три класса. Вот я и не знаю, как быть, потому что не хочется мне отрывать Мендла от хедера.
А то, что ты пишешь насчет жены Шлоймы Курлендера, то я тебе давно уже говорил, что, на мой взгляд, Шлойма сумасшедший и зря он на старости лет женился на девице, а кроме того, он очень виноват перед детьми от первой жены. Но я не желаю вмешиваться в чужие дела. Своих бед предостаточно. Дела сейчас очень плохи из-за дикой жары, какую себе и представить невозможно.
А то, что ты пишешь насчет Чапнихи и Хаима Сорокера, то я давно уже говорил, что Хаим едет в Мариенбад не ради лечения, а ради того, чтобы пожить в свое удовольствие, и ради картишек. Всем известно, что карты – его страсть. А Берл Чапник уже снова был у меня с просьбой дать ему взаймы и намекал мне насчет сватовства, то есть будто бы его из многих городов запрашивают о наших дочерях. Еще сообщил он мне по строжайшему секрету, что есть у него «рука», когда дело коснется экзаменов сына моего Якова. Судя по его словам, это близко к истине. Но это должно стоить много денег. Я отговорился тем, что напишу тебе и дам ему ответ через несколько дней. Пока что отделался от него, не дав ему денег.
Помни же все, что я пишу тебе относительно этого парня из Кишинева. Пиши непременно, как обстоит дело, а главное – его имя и фамилию. А так как нестерпимо жарко и времени не очень много, то пишу коротко. Дай Бог здоровья и благополучия. Кланяюсь тебе и детям. И пиши мне часто и обо всем подробно.
От меня, твоего супруга
Зейв-Волфа бреб[5] Мендла Ямайкера
12. Бейльця Курлендер из Мариенбада – своему мужу Шлойме Курлендеру на улицу Полевки в Варшаву
Моему дорогому просвещенному мужу Шлойме, да сияет светоч его!
Только что получила твое письмо, дважды его перечитала и не знала, что делать: смеяться ли над твоей глупостью или плакать над моей злосчастной долей? Ну скажи сам, Шлойма, – ведь ты же пожилой человек, – не смешно ли все то, что ты мне пишешь? Что касается твоей морали по поводу тряпок, которые я накупила в Вертгеймера, то это чепуха. У тебя все «тряпки». В прошлом году, помню, когда я купила на аукционе воротник из черных лисиц и горжетку из соболей, ты тоже сказал: «Тряпки!» А потом меховщики оценили эти вещи и сказали, что если бы я заплатила даже втрое больше, то все равно было бы дешевле ворованного. Только тогда ты успокоился. Приехать бы мне только здоровой домой, тогда ты сам увидишь, какие «тряпки» я купила, и сам скажешь, что это – находка! Но тебе надо прежде всего попортить мне кровь, такая уж у тебя натура. Дальше. Ты упрекаешь меня в том, что я не швырнула букет берлинскому холостяку, или «прощелыге», как ты его называешь, прямо в лицо. Это тоже не так умно, как ты думаешь. Ты, не в обиду будь тебе сказано, в этих вещах малость поотстал. Ты не знаешь, что на свете творится. Здесь, за границей, так заведено, что уезжающего гостя, нравится это тебе или нет, провожают с цветами. Это обязательно. В душе можешь думать: «Проваливай ко всем чертям!» Но букет надо поднести. А когда человек так вежлив и любезен и преподносит тебе букет, будь он прощелыга, идиот и что хочешь, ты не можешь оказаться еще большим идиотом и прощелыгой и должен принять, да еще с улыбкой, да еще сказать: «Данке Шён!»[6] Да, Шлойма, так принято. И нельзя в нынешнее время жить по старинке.
Затем ты пишешь, что поломал бы кости коммивояжеру, который ехал со мной в поезде… Я от души смеялась! А за что, собственно, ему следует ломать кости? Чем он так провинился? Тем, что коснулся губами кончика пальца моей руки? Что же, он откусил кусок? Ведь я же писала тебе, что он получил от меня пощечину, – чего же ты еще хочешь? Остается, стало быть, одно: почему я ездила по Мариенбаду с Меером Марьямчиком – самое большее минут пятнадцать, от вокзала до города? Бог ты мой, что творится! А что бы ты сказал, если бы видел, как наши налевкинские тихони Шеренцис и Пекелис свободно гуляют с совершенно чужими молодыми людьми, да еще по ночам к тому же? Или, например, что бы ты сказал, если бы слыхал рассказы моей родственницы Хавеле Чапник об Остенде, – она уже была там дважды? Дамы купаются там вместе с мужчинами, в одном море, даже не разгороженном, хотя бы из приличия, досками, как у нас, а просто вместе плещутся, вместе плавают и даже держатся за руки. Только что натягивают на себя такие костюмы, говорит она, коротенькие штанишки телесного цвета, специально сшитые для мужчин и женщин, чтобы купаться? Другая жизнь настала, Шлойма, свободная и открытая. Ты сам мне много раз говорил: не та смиренница, что носит парик, и не та негодница, что носит собственные волосы. Как же ты можешь мне писать такое?
Ты задаешь вопрос: каким образом шарлатан Марьямчик попал на вокзал и откуда он знал, что я приезжаю? Это, конечно, щекотливый вопрос, но дело в том, что ты не знаешь, что такое Мариенбад. Ты думаешь, Мариенбад – это Мариенбад? Мариенбад – это Бердичев, Мариенбад – это Варшава, Мариенбад – это Налевки. Здесь каждый знает, что у другого готовят. Послушал бы ты, что рассказывает Ямайчиха о Броне Лойферман, о Лейце Бройхштул, о Шеренцис и о Пекелис! Или, к примеру, послушал бы ты, что все они говорят о Ямайчихе с ее дочерьми, об их сватовстве, о женихах, – волосы дыбом встают! Пусть только кто-нибудь обронит слово у источника, или в кафе, или в ресторане – тут же его разносят по всему Мариенбаду. Например, когда я была в Берлине, я писала моей Хавеле Чапник, что еду в Мариенбад, и на другой день весь Мариенбад из края в край знал, когда я приезжаю, с каким поездом, в котором часу и даже в какой шляпке я буду. Шутишь с Мариенбадом! А так как моя родственница в этот день, как я уже тебе писала, была страшно занята с твоим добрым другом Хаимом Сорокером (они играли в «шестьдесят шесть») и так как Меер Марьямчик в этот день как раз был на вокзале и отправлял, говорит, очень важное письмо в Одессу, то он увидел, между прочим, знакомую даму (то есть меня), стоящую в одиночестве с узлами, коробками и чемоданами. Тогда он подошел ко мне и говорит на своем одесском языке – наполовину по-русски, наполовину по-еврейски: «Если не ошибаюсь, вы, кажется, моя землячка, варшавянка с Налевок?» А я ему отвечаю на его же языке: «Очень возможно, что вы не ошибаетесь…» Тогда он повеселел и говорит: «Если не ошибаюсь, я встречал вас у мадам Сорокер на Налевках?» Я опять говорю: «Возможно, что вы не ошибаетесь». Тогда он не поленился и говорит еще раз: «Если я не ошибаюсь, вы вторая жена господина Курлендера?» Это начало меня раздражать, и я сказала: «Не все ли равно, ошибаетесь вы или не ошибаетесь? Вы лучше посмотрите, как я стою здесь с багажом посреди Мариенбада и не вижу ни носильщика, ни черта, ни дьявола…» И только я произнесла эти слова, сей молодчик как кинется и сразу привел мне носильщика, нанял фиакр, посадил меня, сам тоже сел, и мы поехали в город… Что же, я должна была ему сказать: «Ляленька, идите пешком»?… Правда, я думала, что Ямайчиха, которая, я тебе писала, была в это время на вокзале, ничего не видит, чтоб ей повылазило! Но допустим, что весь Мариенбад, то есть все варшавские Налевки, видел, как мы едем вдвоем, – что из этого? А что если бы на вокзале был, как тебе хотелось, твой друг Сорокер, а не Марьямчик и я поехала бы в город с ним? Тебе было бы легче? Хаим Сорокер разве не варшавянин и не женатый? Что же тебя так возмутило? Почему ты не задумался испортить мне кровь и заставил меня плакать три часа подряд? Для того я поехала в Мариенбад, потратила столько денег, чтобы загубить последние силы из-за того, что у тебя в голове путаются дурацкие мысли и подозрения?