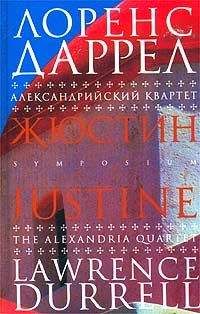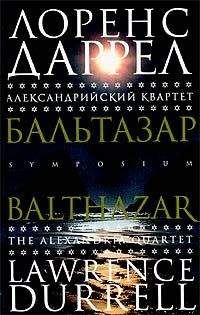Мы долго лежали рядом в мокрых купальных костюмах, впитывая кожей последние тусклые солнечные лучи и ласковую вечернюю прохладу. Я прикрыл глаза, Жюстин (как ясно я ее вижу!) оперлась на локоть, глядя на меня из-под руки. Была у нее такая привычка — когда я говорил, она полунасмешливо следила за моими губами, неотрывно, почти нахально, словно ждала, что я вот-вот оговорюсь. Если и в самом деле все началось именно в тот момент, то я, каюсь, совершенно не помню, о чем шла речь, остался только ее взволнованный хрипловатый голос и одинокая фраза вроде: «А если это случится с нами — что ты на это скажешь?» Я не успел ответить, она наклонилась и поцеловала меня — поцеловала насмешливо, с вызовом, в губы. Это было так неожиданно — я повернулся к ней, не зная, смеяться мне или протестовать, — но с этой минуты ее поцелуи стали похожи на невероятно мягкие, словно задыхающиеся, удары, запятые между выдохами неудержимого смеха, в ней закипавшего, — насмешливого нервного смеха. Помню, меня поразило, что она была похожа на очень напуганного человека. Если бы я сказал: «С нами этого случиться не может», — она бы ответила: «Но давай предположим. А вдруг?» А затем — вот это я помню отчетливо — ее охватила мания самооправдания (мы говорили по-французски: язык в ответе за национальный характер); и в промежутках между задыхающимися половинками секунд, когда ее сильный рот искал мои губы, а эти грешные смуглые руки — мои руки: «Это не похоть и не прихоть. Мы слишком хорошо знаем этот мир: просто нам нужно кое-что узнать друг через друга. Что это, а?»
Что это было? «Ну, и куда мы забрели?» — помню, спросил я, представив высокую, по-пизански нависшую над нами фигуру Нессима на фоне вечернего неба. «Не знаю», — сказала она с отчаянной, безнадежной покорностью, упрямо не желавшей покидать ее лицо и голос. «Не знаю». — И она прижалась ко мне, как прижимают ладонь к ушибленному месту. Она словно пыталась стереть в порошок самую мысль о моем существовании и в то же время в хрупком, дрожащем облачке каждого поцелуя находила некое болезненное прибежище — холодная вода на растянутые связки. Как ясно видел я в ней в тот миг дитя Города, Города, повелевающего женщинам своим, от века обреченным охотницам за нечаянным, за нежеланным, вожделеть не наслаждения, а боли.
Она встала и пошла прочь по длинной изогнутой линии пляжа, медленно переходя вброд озера жидкой лавы; и я подумал о том, как из каждого зеркала в спальне ей улыбается красивое лицо Нессима. Вся сцена, только что нами разыгранная, уже обрела для меня расплывчатые контуры сна. Помню, я удивился, совершенно трезвым взглядом окинув собственные дрожащие руки, пытавшиеся прикурить сигарету; потом я встал и пошел за ней следом.
Но когда я догнал ее и остановил, лицо, обернувшееся ко мне, было лицом больного демона. Ярость ее взметнулась, как пружина: «Ты думал, я просто хотела заняться любовью, да? Господи! неужто мы этим еще не объелись? Почему ты сразу не понял, что я чувствую? Почему?» Она топнула ногой о мокрый песок. Нет, под ногами у нас не разверзлась каверна, скрытая под поверхностью земли, по которой мы столь уверенно ступали, — хуже. Словно обвалился во мне, в самой сердцевине, давно забытый штрек. Я понял: наш безудержный и бестолковый поток идей и чувств пробил проход к самым дремучим дебрям наших душ; и мы стали-таки сервами, рабами, обладателями тайного знания, того, которое навеки отпечаталось в нас, — а иначе ни увидеть его, ни расшифровать, ни понять — за пределами видимого спектра. (Как мало тех, кто видит в этих красках, как редко нам доводилось их встречать!) «В конце концов, — помнится, сказала она, — это не имеет ничего общего с сексом». И я снова едва поборол желание рассмеяться, хоть и признал в ее фразе отчаянную попытку оторвать плоть от послания, во плоть облаченного. Мне кажется, так влюбляются банкроты. Я увидел то, что давно уже должен был увидеть: наша дружба отцвела, и плод созрел; мы оказались совладельцами друг друга — отчасти.
Думаю, эта мысль ужаснула нас обоих; выжатые до капли, мы не могли не испугаться подобной перспективы. Мы больше не говорили, мы пошли назад по пляжу к тому месту, где оставили одежду, молча и держась за руки. Жюстин выглядела совершенно измотанной. Мы умирали от желания поскорее друг от друга отделаться, чтобы разобраться в собственных чувствах. Мы даже не пытались говорить. Мы въехали в город, и она высадила меня, как обычно, на углу неподалеку от дома. Я захлопнул дверцу, она уехала — ни слова, ни взгляда в мою сторону.
Пока я открывал дверь квартиры, перед моими глазами все еще стоял отпечаток ее ноги в мокром песке. Мелисса читала. Взглянув на меня поверх книги, она сказала спокойно, уверенная в своей правоте — с ней часто так бывало: «Что-то случилось — что?» Я не мог ответить, я сам этого не знал. Я взял ее лицо в ладони и долго молча смотрел на нее, внимательно и нежно, с грустью и голодом, каких никогда не испытывал прежде. Она сказала: «Ты видишь не меня, а кого-то еще». Но на самом деле я видел именно Мелиссу — в первый раз. Неким парадоксальным образом именно Жюстин помогла мне увидеть настоящую Мелиссу — и понять, как я ее люблю. Мелисса с улыбкой потянулась за сигаретой в сказала: «Ты влюбился в Жюстин», — и я ответил ей так искренно, так честно и так обжигающе больно, как только был способен: «Нет, Мелисса, много хуже», — хотя, расстреляйте меня, не смог бы объяснить почему.
Думая о Жюстин, я представлял себе большой рисунок, сделанный от руки, этюд феминистской карикатуры — «Освобождение от пут мужского начала». «Там, где падаль, — гордо процитировала она как-то раз из Бёме, имея в виду свой родной город, — там соберутся орлы». И действительно, было в ней в тот момент что-то орлиное. Мелисса же была похожа на печальный пейзаж маслом с натуры, зимний пейзаж, придавленный темным небом: оконная рама с тремя цветками герани, забытыми на подоконнике цементного завода.
Есть один отрывок из дневников Жюстин, который неизменно приходит здесь на память. Я привожу его перевод, хотя относится он к событиям, наверняка происходившим задолго до всего рассказанного мной, ибо, несмотря ни на что, он почти безошибочно угадывает ту странную врожденную особенность любви, которая, как я понял, принадлежит не нам, а Городу. «Бессмысленно, — пишет она, — воображать состояние влюбленности как соответствие душ и мыслей; это одновременный прорыв духа, двуединого в автономном акте взросления. И ощущение — как беззвучный взрыв внутри каждого из влюбленных. Вокруг сего события, оглушенный и отрешенный от мира, влюбленный — он, она — движется, пробуя на вкус свой опыт; одна только ее благодарность по отношению к нему, мнимому дарителю, донору, и создает иллюзию общения с ним, но это — иллюзия. Объект любви — просто-напросто тот, кто разделил с тобой одновременно твой опыт и с тем же нарциссизмом; а страстное желание быть рядом с возлюбленным прежде всего обязано своим существованием никак не желанию обладать им, но просто попытке сравнить две суммы опыта — как отражения в разных зеркалах. Все это может предшествовать первому взгляду, поцелую или прикосновению; предшествовать амбициям, гордости или зависти; предшествовать первым признаниям, которыми обозначена точка поворота, — с этих пор любовь постепенно вырождается в привычку, в обладание — и обратно в одиночество». Как характерно это описание магического дара, и как ему недостает хотя бы капли юмора: насколько верно оно… в отношении Жюстин!
«Каждый мужчина… — пишет она несколькими страницами дальше, и в ушах моих звучит ее хрипловатый грустный голос, она пишет слово за словом и читает их вслух. — Каждый мужчина частью — глина, частью — демон, и ни одна женщина не в силах вынести и то и другое сразу».
В тот день она вернулась домой, и дома был Нессим, прилетевший дневным рейсом. Она пожаловалась, что ее лихорадит, и рано легла спать. Когда он пришел посидеть с ней и померить ей температуру, она кое-что сказала — сказанное резануло его и показалось ему достаточно интересным, чтобы запомнить, — пройдет много-много времени, и он повторит мне слово в слово: «Ничего интересного с медицинской точки зрения — просто простуда. Болезни не интересуются теми, кто хочет умереть». И следом один из столь типичных для нее боковых ходов мысли — ласточка круто ложится влево между небом и землей: «Боже мой, Нессим, я всегда была такой сильной. Может, именно сила и мешала мне быть по-настоящему любимой?»
* * *
Тем, что в гигантской паутине александрийского света я стал ориентироваться с некоторой даже легкостью, я обязан Нессиму; мои собственные скудные доходы даже не позволяли мне зайти в тот ночной клуб, в котором танцевала Мелисса. Поначалу я несколько стеснялся вечной роли адресата Нессимовой щедрости, но вскоре мы стали такими закадычными друзьями, что я ходил с ними повсюду, нимало не замечая денежных проблем. Мелисса раскопала в одном из моих сундуков древний смокинг и довела его до ума. В клуб, где она выступала, я в первый раз пришел вместе с ними. Было что-то неестественное в том, что я сидел между Жюстин и Нессимом и смотрел, как белый луч прожектора сквозь снегопад пылинок метнулся вниз и выхватил Мелиссу, совершенно незнакомую под слоем грима, придавшего ее тонким чертам оттенок будничной и непристойной вульгарности. Банальность ее танца ужаснула меня, банальность почти запредельная; однако, глядя на нерешительные и неудачные движения ее стройного тела (картинка — газель, привязанная к водяному колесу), я чувствовал, что влюблен в ее заурядность, в то оцепенелое самоуничижение, с которым она кланялась в ответ на равнодушные аплодисменты. Немного погодя ее заставили обходить посетителей с подносом и собирать для оркестра мзду, она занималась этим с безнадежной робостью и подошла к нашему столику, опустив глаза под жуткими накладными ресницами, и руки у нее дрожали. Тогда мои друзья еще не знали, что между нами что-то есть, но я заметил удивленный и насмешливый взгляд Жюстин, когда выворачивал карманы и выискивал те несколько несчастных бумажек, что бросил на поднос руками, дрожащими не меньше, чем руки Мелиссы, — так остро я ощутил ее смятение.