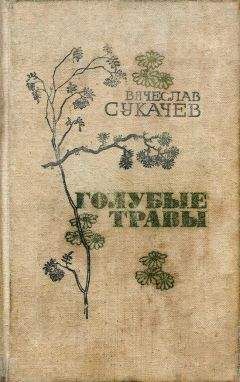— Лина!
Но ее уже не было. А вместе с нею исчез и туман. Светило ясное солнце. Оно отражалось в маленьком оконце Аксиньиного дома и больно слепило глаза. Я хотел загородиться ладонью, но в это мгновение из окна выпрыгнул Валет и с лаем бросился на меня. Сама Аксинья, вся в черном, стояла в стороне и укоризненно смотрела чистыми детскими глазами. Затем все как-то быстро смешалось, и появилось ощущение, что мне надо немедленно проснуться. Что Лина уже давно пришла и занимается по хозяйству на кухне… Я открыл глаза и почувствовал влагу на подушке. Я плакал во сне, но еще сильнее мне хотелось заплакать наяву, потому что была ночь и тишина в доме и никто не ходил по кухне, а лишь наши старые настенные часы хрипло отсчитывали секунды.
— Лина, — прошептал я в отчаянии. — Лина, Лина, Лина, — повторял я ее имя, и у меня тихо кружилась голова, словно я заглядывал в глубокую пропасть, рискуя сорваться и разбиться вдребезги…
Пришло утро. И опять день занимался непогожим, с реденьким, холодным дождем и низкими тучами, которые шли и шли от горизонта, заволакивали дальние сопки и стремились опять за горизонт.
Вяло и неохотно пил я чай. Бабка, сердитая и шумная, не разговаривала со мной. Вытаскивая из русской печи круглые, ароматно пахнущие хлебы, она сбрызгивала их водой, затем утиным крылышком смазывала маслом и прятала под льняное полотенце, где они, задыхаясь от собственного хлебного духа, набирались мягкости. Я равнодушно следил за ее движениями и напряженно прислушивался к каждому уличному звуку. Но того звука, который хотел услышать я, не было. Никто не дергал щеколду калитки, и сама она не скрипела сухими втулками на ржавых навесах. Тогда я вспоминал свой сон, и мне на мгновение становилось легче, но только на одно мгновение, а затем глухая тоска и боль с новой необыкновенной силой наваливались на меня.
— Что у вас такое случилось-то? — наконец спросила бабка, убирая последний лист из-под хлеба.
— Ничего, — ответил я.
— А если ничего, так почему она домой не идет?
— Спроси у нее.
— Я у тебя спрашиваю, зараза ты такая, — бабка уже была сердита не на шутку, — что ты с девчонкой сделал, сволота противная?
— Ничего я с ней не делал и делать не собирался, — раздраженно ответил и я, — а если ей тетка дороже, то и пусть сидит у нее. И не приставай ко мне, ничего я не знаю и знать не хочу.
С этими словами я выскочил на улицу, так как и в самом деле ничего не знал, ничего не мог объяснить не только бабке, но и самому себе. Какое-то ожесточение постепенно захватывало меня, и я уже не думал, что брошусь навстречу и буду целовать Лину, если она вдруг покажется на дороге. Нет, теперь я рисовал в своем воображении совершенно иную встречу, где я был холоден и равнодушен, а Лина просила у меня прощения. Я мстил за свое одиночество, за свою тоску по ней и отчаяние, которое с каждой минутой все больше и больше овладевало мной.
Да, очень глупо полагаем мы, когда считаем, что наше воображение и действительность наша совершенно разные вещи. Нет, они едины, как един человек в каждом поступке и слове своем. И если чье-то воображение как бы в шутку рисует жестокие картины, то этот человек уже способен к жестокости, уже поражен ею, и только представится случай — он будет жесток, и жесток самым серьезным образом, а не в шутку. Но это я понял значительно позже, достаточно помотавшись по свету, понял тогда, когда от этого понимания уже почти ничего не менялось.
К вечеру я измучился совершенно, дошел до какой-то угнетающей тупости и мечтал только об одном, чтобы скорее закончился этот день, этот праздник, эти веселые песни из соседних домов, этот бодрый дикторский голос из репродуктора и тягучие песни Зыкиной, которые тогда только начинали входить в моду. Лишь только стемнело, я разделся, лег в постель, в изголовье которой привычно лежали две подушки, и заснул тяжелым сном без предчувствий и сновидений.
На следующий день я уже был более спокоен, но спокойствие это отдавало холодом обреченности и усталости. Так, мне кажется, спокоен человек перед смертью, когда уже знает о ее неотвратимости и лишь, ждет неведомого сигнала, чтобы закрыть глаза и в последний раз глубоко вздохнуть.
Все утро я под навесом колол дрова и в каждый удар топора вкладывал какую-то долю своего ожесточения. И словно почувствовав мое состояние, бабка непривычно робко и жалостливо сказала:
— Володя, может быть, сходишь к ней?
— Нет, — твердо ответил я.
— Сегодня воскресенье. Я пирогов напекла, и бутылка вина у меня есть, вот бы мы сели втроем да и выпили… А так что же получается…
— Нет.
— Ты почто это такой противный у нас? — изумилась бабка. — В кого такой пошел-то? У нас вроде все ласковые да уступчивые…
Но я колол дрова, сосредоточенно и ожесточенно колол, вкладывая в это немудрящее дело всего себя.
— Ох, схватишься ты, Вовка, да поздно будет, — вздохнула бабка, — она ведь девка видная, такую вмиг приберут да радоваться будут. А ты вот останешься ни с чем. Послушал бы меня, сходил, ноги не отломятся, а потом только благодарить будешь.
— Нет, — еще решительнее сказал я.
— Тьфу! — бабка в сердцах сплюнула. — Ирод какой выискался. Гордыня его одолела, а по ночам Лина да Лина твердит, чтоб тебе пусто было. Тогда не ори по ночам, не дергайся, если не любишь ее. А любишь, так я тебе еще раз говорю — сходи и помирись, пока не поздно. Дров наломать всегда успеешь, а вот как потом жить собираешься?
Я отшвырнул топор и пошел в дом, потому что уже не мог спокойно слушать бабкины слова, потому что они выражали мои чувства, которые я тщательно прятал от самого себя…
Лина пришла после обеда. Услышав ее голос, я в первое мгновение обмер от счастья и радости, оттого, что сейчас увижу ее, но тут же во мне шевельнулся какой-то червячок злорадного удовлетворения. Я быстро встал из-за стола и ушел в горницу, закрыв за собою дверь. Я слышал, как она вошла на кухню вместе с бабкой, как села на табуретку и грустно вздохнула, и сердце у меня билось так, словно за несколько секунд хотело отработать все свои положенные на веку удары.
— Ты есть-то хочешь? — спросила бабка.
— Нет, спасьибо, бабушька, — тихо ответила Лина. — Я за вещами пришла.
Я вздрогнул и напрягся и тупо смотрел в зеркало, не видя своего отражения. А они все говорили и говорили о чем-то, но я не понимал смысла их слов. Потом дверь открылась, и я почувствовал, что вошла Лина. Но я не обернулся и не сделал ни единого движения, я все еще смотрел в зеркало, не видя себя.
— Здравствуй, Володя, — напряженно выговаривая слова, сказала Лина.
Я не ответил и вскоре услышал, как она достала из-под кровати свой чемодан. Потом щелкнули замки, и Лина вышла, зацепившись чемоданом за косяк. Я сел на койку и закрыл голову руками. Я не слышал, как вошла бабка, а только почувствовал легкую боль от ее резких толчков сухим кулаком в бок.
— Иди и скажи, чтобы она оставалась, — гневно прошептала бабка, — а то я и тебя из дома выгоню. Иди!
Я покачал головой. Потом я слышал, как плакала Лина и что-то говорила ей бабка, успокаивая и жалея. Потом хлопнула дверь, и я понял, что Лина ушла. Еще некоторое время сидел я неподвижно, тихо покачиваясь и крепко жмуря глаза, наконец встал и вышел на улицу.
Я стоял у калитки, что вела в огород, и смотрел на то, как уходила Лина по сырой дороге, с чемоданом в руке, который я когда-то сам принес домой. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за первым березовым колком, и потом еще долго, уже ничего не видя перед собой, потому что я смотрел сквозь слезы.
Мы долго молчали. Володя курил и смотрел куда-то мимо костра, в ту сторону, где уже призрачно намечался рассвет и обмякли, затуманились звезды, предчувствуя утро и солнце, как предчувствуют рассвет цветы, распахивая встречь мокрые лепестки. Часто и сильно постучал по сухой листвянке дятел, словно и он торопился в рассвет, торопился к жизни и свету, который всему живому дает право на счастливую и добрую жизнь.
Я вздохнул и пошевелился. Володя, медленно повернув голову, отсутствующе и тяжело посмотрел на меня. Потом он тщательно загасил огонек папиросы и бросил окурок в костер.
— Прошел месяц, — глухо начал он, — и я ее ни разу не видел. Даже случай отвернулся от меня. Впрочем, сам я и шагу не сделал навстречу этому случаю. Я замкнулся в себе и медленно, мучительно как-то перегорал из юноши в мужчину.
Несколько раз пытался со мною поговорить Петька, но это привело только к тому, что я стал избегать с ним встреч, а если все-таки он заставал меня дома, то я отчужденно молчал, и уже вскоре моя отчужденность начала переходить во враждебность. Очевидно, Петька почувствовал это, потому что вскоре отступился, и какой-то холодок в наших отношениях стал постоянным. Так вместе с Линой я потерял и друга. Все-таки, мне кажется, несчастье, если это только настоящее несчастье, человек преодолевает один. Такова уж суть и природа человеческой беды, горя человеческого — преодоление его в одиночку. Правда, это далеко не каждому по силам, но тут уже совсем другой разговор…