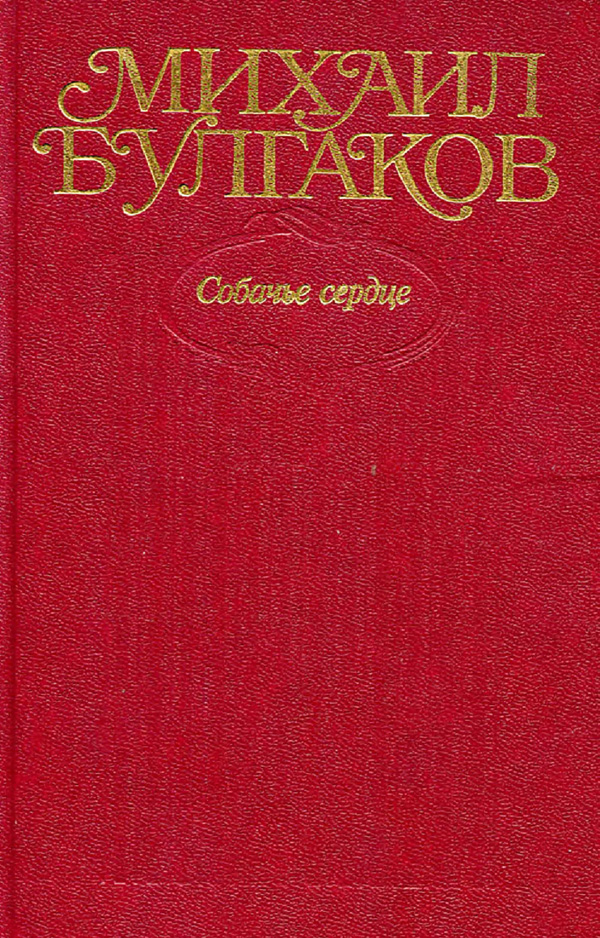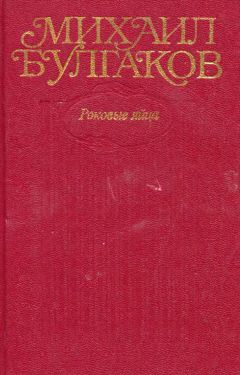тогда привыкли к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто бы стыдно. Подхалимством веет от этого отрывка («отрывок» из «Записок на манжетах». —
В. П.), кажется впервые с знаменитой осени 1921 г. позволю себе маленькое самомнение и только в дневнике, — написан отрывок совершенно на «ять», за исключением одной-двух фраз («Было обидно и др.»).
И вообще «Дневник» — богатый источник для подлинной реконструкции творческой биографии М. А. Булгакова; после его публикации глубже понимаешь его характер, образ мыслей, ход его размышлений; по этим записям, хоть и беглым, но достаточно откровенным, лучше понимаешь его отношения с писателями, близкими, друзьями, знакомыми, которые не остаются неизменными, раз и навсегда зафиксированными. За эти три-четыре года можно проследить значительную эволюцию его взглядов и взаимоотношений с разными лицами, с которыми он общается.
Особый интерес представляют записи, выражающие его отношение к «Накануне» и сменовеховцам, приехавшим из Берлина в Москву. Ночью 27 августа 1923 года Булгаков записывает, что присутствовал на лекции профессора Ключникова, Алексея Толстого, Бобрищева-Пушкина и Василевского — Не-Буква. «В театре Зимина было полным-полно. На сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочие. Сидел рядом с Катаевым. Толстой говорил о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева.
Книжки до сих пор нет.
«Гудок» изводит, не дает писать».
В воскресенье, 2 сентября, следует запись: «...Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому. Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно обращаться с молодыми писателями.
Все, впрочем, искупает его действительно большой талант.
Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать школу. Он стал даже немного теплым.
— Поклянемся, глядя на луну...
Он смел, но он ищет поддержки и во мне и в Катаеве. Мысли его о литературе всегда правильны и метки, порой великолепны.
Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, присяду».
На следующий день, в понедельник, 3 сентября, Булгаков продолжает все те же темы: «После ужасного лета установилась чудная погода. Несколько дней уже яркое солнце, тепло.
Я каждый день ухожу на службу в этот свой «Гудок» и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день.
Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как и всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, но на покупки вещей не хватает. Без проклятого пойла — пива не обходится ни один день. И сейчас я был в пивной на Страстной площади с А. Толстым, Калменсом и, конечно, хромым «капитаном», который возле графа стал как тень...
Толстой рассказывал, как он начинал писать. Сперва стихи. Потом подражал. Затем взял помещичий быт и исчерпал его до конца. Толчок его творчеству дала война».
9 сентября, воскресенье, еще одна важная запись: «Сегодня опять я ездил на дачу к Толстому и читал у него свой рассказ. Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал «Звезда» со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет.
Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период. Вчера я, обозлившись на вечные прижимки Калменса, отказался взять у него предложенные мне 500 рублей и из-за этого сел в калошу. Пришлось занять миллиард у Толстого (предложила его жена)».
«26 октября. Пятница. Вечер.
Я нездоров, и нездоровье мое неприятное, потому что оно может вынудить меня лечь. А это в данный момент может повредить мне в «Гудке». Поэтому и расположение духа у меня довольно угнетенное.
Сегодня я пришел в «Гудок» рано. Днем лежал...
Интересно: Соколов-Микитов подтвердил мое предположение о том, что Ал. Дроздов — мерзавец. Однажды он в шутку позвонил Дроздову по телефону, сказал, что он Марков-2-й, что у него есть средства на газету и просил принять участие. Дроздов радостно рассыпался в полной готовности. Это было перед самым вступлением Дроздова в «Накануне». Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидели свет ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой.
Но мужества во мне теперь больше. О, гораздо больше, чем в 21-м году. И если б не нездоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее...»
Мелькают дни, мелькают события, Булгаков интересуется внешней и внутренней политикой правящей партии, порой иронически, порой саркастически описывает происходящее на его глазах. Мало утешительного и мало надежд на улучшение его положения в обществе. Человек с его взглядами, независимыми и неподкупными, может оказаться в безнадежном положении. Вот почему он тоскливо смотрит в свое будущее, а тут еще привязалась болезнь: опухоль за ухом, дважды ее оперировали, доктор уверяет, что это не злокачественная опухоль, но предчувствие неблагополучия пугает его. Тем более что рухнули надежды на издание «Записок на манжетах» в издательстве «Накануне»; часто приходится выслушивать отказы напечатать тот или иной фельетон, уж не говоря о повестях, которые у него уже созрели в голове; как дальше работать, если «наглейший Фурман», представитель газеты «Заря Востока», потерял два его фельетона и отказывается ему заплатить за них; как дальше существовать, если приходится чуть ли не каждый день ходить по редакциям и предлагать свои фельетоны: забракуют в одной редакции, несет в другую, и так каждый день он бегает в поисках средств к существованию, где выпросит десятку, где двадцатку под расписку, под ручательство, что отработает, напишет фельетон или очерк... «Кошмарное существование» продолжалось почти весь 1924 год... То возникают надежды напечатать роман, то рушатся эти надежды; то пообещают напечатать «Роковые яйца», то откажут или выбросят 20 лучших