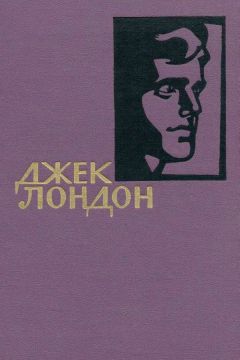Черчилль вытащил каноэ на берег, подхватил саквояж Бонделла и, прихрамывая, рысцой направился к полицейскому посту.
— Там внизу каноэ из Доусона, предназначенное для вас, — выпалил он офицеру, открывшему на его стук дверь, — и человек в нем, еле живой. Ничего опасного, просто выбился из сил. Позаботьтесь о нем. А я должен спешить. До свидания. Хочу захватить "Афинянина".
Между озером Беннет и озером Линдерман лежит перемычка в милю длиной, и последние слова Черчилль бросил через плечо, почти на бегу. Бежать было очень больно, но он сжал зубы и несся вперед. Он даже забывал о боли, настолько его переполняла жгучая ненависть к саквояжу. Это было тяжкое испытание. Черчилль перекладывал саквояж из руки в руку. Он засовывал его под мышки. Он закидывал руку с саквояжем через плечо, и тот при каждом шаге колотил его по спине. Было ужасно трудно держать саквояж разбитыми и распухшими руками, и он несколько раз ронял его. Один раз, когда он перекладывал саквояж из руки в руку, тот выскользнул и упал, Черчилль споткнулся и тоже свалился на землю.
Добравшись до конца перемычки, Черчилль купил за доллар старые ремни и привязал саквояж к спине. Там же он нанял баркас, который доставил его за шесть миль к верхней оконечности озера Линдерман, куда Черчилль добрался к четырем часам дня. "Афинянин" должен был отплыть из Дайи в семь часов утра на следующий день. До Дайи было двадцать восемь миль, и перед ним высился Чилкут. Черчилль присел, чтобы поправить обувь перед долгим подъемом, и проснулся. Он заснул в ту же секунду, как только присел. Хотя спал он не больше тридцати секунд, он испугался, что в следующий раз задремлет надолго, и кончал приводить обувь в порядок уже стоя. И даже стоя он не мог побороть слабость сразу. На какое-то мгновение он потерял сознание; он понял это, когда ослабевшее тело начало валиться на землю, но тут же вернул себя в чувство судорожным усилием мышц и удержался на ногах. Этот резкий переход от состояния бессознательности оставил по себе тошноту и дрожь. Черчилль принялся бить себя кулаком по голове, возвращая бодрость отупевшим мозгам.
Вьючный караван Джека Бэрнса возвращался налегке к озеру Кратер, и Черчиллю предложили ехать на муле. Бэрнс хотел погрузить саквояж на другого мула, но Черчилль оставил его при себе, пристроив на луке седла. Однако то и дело дремота охватывала его, и саквояж упорно соскальзывал то на одну сторону седла, то на другую, и каждый раз Черчилль мучительно просыпался. Затем, когда уже начало темнеть, мул задел за выступавшую ветку, и Черчиллю разодрало щеку. В довершение всего мул сбился с дороги и упал, сбросив седока и саквояж на скалы. Дальше Черчилль предпочел идти, точнее сказать, тащиться, по отвратительной, едва ли достойной своего названия тропе, ведя за собой мула. Ужасающий смрад, доносившийся с обочин, говорил о том, сколько лошадей полегло тут жертвами людской погони за золотом. Но Черчилль ничего не чувствовал. Он слишком хотел спать. Однако к тому времени, когда они добрались до Долгого озера, он оправился от сонливости; у Глубокого озера он поручил саквояж Бэрнсу, с которого при тусклом свете звезд не спускал глаз. С саквояжем не должно было ничего случиться.
У озера Кратер караван остался в лагере, а Черчилль, привязав саквояж к спине, принялся карабкаться по склону к перевалу. На этой почти отвесной крутизне он впервые почувствовал, как он устал. Он полз на четвереньках, как краб, явственно ощущая тяжесть своих рук и ног. Каждый раз для того, чтобы поднять ногу, ему приходилось до боли напрягать всю волю. Черчиллю начало казаться, что на ногах у него свинцовые башмаки, как у водолаза, и он едва перебарывал желание нагнуться и пощупать свинец руками. Что касается саквояжа Бонделла, то казалось непостижимым, как могут сорок фунтов весить так много. Саквояж давил на него так, словно он тащил на спине гору, и Черчилль не верил сам себе, вспоминая, как год назад он поднимался на этот самый перевал с грузом в сто пятьдесят фунтов за плечами! Если в тот раз он тащил сто пятьдесят фунтов, то саквояж Бонделла весил, наверное, фунтов пятьсот.
Первый подъем от озера Кратер к перевалу пролегал через небольшой ледник. Тропа здесь была хорошо видна. Но выше, за ледником, являвшимся границей лесной зоны, не было ничего, кроме хаоса голых скал и огромных валунов. Тропинку в темноте не было видно, и он двигался вслепую, ощупью, затрачивая раза в три больше усилий, чем обычно. Он добрался до перевала в разгар снежной бури и, на свое счастье, натолкнулся на маленькую заброшенную палатку, в которую немедленно заполз. Там он нашел несколько старых и засохших картофелин и полдюжины сырых яиц, которые с аппетитом проглотил.
Когда снег и ветер стихли, он начал почти немыслимый спуск. Тропинки здесь не было, и он брел наугад, спотыкаясь, то и дело в самый последний момент обнаруживая, что находится у края какого-нибудь обрыва или ущелья, глубину которых он даже представить не мог. Вскоре тучи вновь закрыли звезды, и в наступившем мраке он поскользнулся и катился вниз футов сто, очутившись исцарапанным и окровавленным на дне большой ямы. Здесь стояло зловоние от лошадиных трупов. Яма была поблизости от тропинки, и погонщики обычно сбрасывали сюда разбитых и умирающих лошадей. От зловония Черчилля затошнило и, словно в каком-то кошмаре, он стал карабкаться наверх. На полпути он вспомнил о саквояже. Саквояж свалился в яму вместе с Черчиллем, ремни, видимо, лопнули, и он совсем забыл про него. Опять ему пришлось лезть в эту вонючую яму и полчаса ползать на коленях, на ощупь отыскивая саквояж. Прежде чем он наткнулся на саквояж, он насчитал семнадцать дохлых лошадей и одну живую, которую пристрелил из револьвера. Оглядываясь на прошлое, в котором он не раз проявлял храбрость и одерживал победы, Черчилль, не задумываясь, заявил сам себе, что это возвращение за саквояжем было самым героическим поступком в его жизни. Настолько героическим, что прежде чем выбраться из ямы, он дважды оказывался на грани обморока.
Когда наконец он добрался до ступеней и крутой спуск Чилкута остался позади, дорога стала легче. Нельзя сказать, чтоб это была очень хорошая дорога даже в лучших местах, но вполне приемлемая тропинка, по которой он мог бы идти нормально, если бы не был изнурен до последней степени, если бы у него оказался фонарь, чтобы светить под ноги, и если бы не саквояж Бонделла. Черчилль находился в таком состоянии, когда саквояж оказался для него той соломинкой, которая, как говорит пословица, переломила спину верблюду. У него едва хватало сил нести самого себя, но добавочный вес валил его на землю почти каждый раз, когда он спотыкался. А когда удавалось удержаться на ногах, откуда-то из темноты высовывались ветки, цеплялись за саквояж на спине и тащили Черчилля назад.
Постепенно у Черчилля крепло убеждение, что если он упустит "Афинянина", то только из-за саквояжа. Вообще в сознании у него осталось только два предмета: саквояж и пароход. Он думал только о двух этих предметах, и они казались почему-то неотделимы от некой суровой миссии, ради которой он странствовал и трудился в течение долгих столетий. Он шел и боролся, как будто во сне. Словно во сне вошел он в Овечий Лагерь. Он ввалился в салун, высвободил плечи от ремней и начал опускать саквояж на пол. Тот выскользнул у него из пальцев и упал на пол с тяжелым стуком, который не остался незамеченным двумя мужчинами, собиравшимися уходить. Черчилль выпил стакан виски, сказал хозяину бара, чтобы тот разбудил его через десять минут, и уселся, поставив ногу на саквояж и опустив голову на колени.
Его измученное тело так было сковано от усталости, что, когда его разбудили, потребовалось еще десять минут и еще один стакан виски, чтобы он смог распрямить члены и расправить мускулы.
— Эй, да не туда пошел! — крикнул ему хозяин бара, потом вышел вслед за Черчиллем и в темноте вывел его на дорогу на Каньон-сити. Какие-то проблески сознания подсказали ему, что он идет в правильном направлении, и по-прежнему, как во сне, Черчилль брел по тропинке через ущелье. Он сам не знал, что его насторожило, но в этот момент путешествия, прошагав, казалось, уже несколько столетий, он почуял опасность и вытащил револьвер. Все еще будто во сне он увидел, как на тропинку вышли двое мужчин и потребовали, чтобы он остановился. Его револьвер выстрелил четыре раза, и он увидел вспышки их револьверов и услышал выстрелы. Кроме того, он понял, что ранен в бедро. Он увидел, как один из мужчин упал, а когда второй подбежал поближе, Черчилль ударил его тяжелым револьвером в лицо. Потом повернулся и бросился бежать. Вскоре он очнулся от своего полусонного состояния и обнаружил, что бежит, прихрамывая, по тропинке. Он был уверен, что все это ему только приснилось, пока он не стал шарить в поисках револьвера и убедился, что револьвер пропал. Потом он почувствовал острую боль в бедре и ощупал себя: рука у него была влажная от крови. Да, он ранен, правда, рана оказалась несерьезной. Тогда он окончательно проснулся и припустился к Каньон-сити.