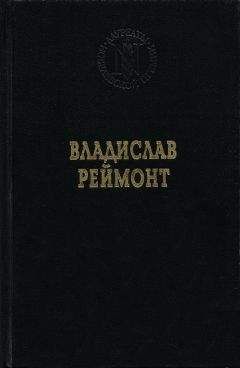— Лучше убей, только не гони из дома! Люди, убейте меня, сил моих нет больше терпеть! Братик, Адам, отец, сжальтесь надо мной!
Она хватала мать за руки, за платье, обнимала ноги, ползала перед ней на коленях и исступленно умоляла прерывающимся от плача голосом сжалиться над ней и простить.
— Немедленно убирайся вон! Чтобы ноги твоей здесь никогда не было! Не то выгоню, как собаку, в участок отведу, — злобно прошипела мать.
Она словно окаменела от горя и не испытывала никаких чувств — даже жалости.
Адам с безучастным видом наблюдал эту сцену; в его зеленых глазах гнев уже угас — их застилали слезы.
— Вон! — еще раз пронзительно крикнула мать.
Зоська замерла на миг посреди комнаты, потом метнулась в коридор, который тянулся вдоль семейного барака, и промчалась по нему с таким диким криком, что из дверей стали выглядывать соседи. Выскочив во двор, она, как затравленный зверь, забилась в дальний угол под цветущую акацию и потеряла сознание.
Адам выбежал за ней и, приведя в чувство, ласково зашептал:
— Зоська, пойдем ко мне! Я не оставлю гебя!
Не говоря ни слова, она вырывалась у него из рук, пытаясь убежать.
Он с трудом успокоил ее, накинул на висевшее клочьями платье предусмотрительно захваченный из дома платок и, взяв под руку, подвел к извозчику.
Поджидавший в подворотне Горн, присоединился к ним.
— Зоске несколько дней придется пожить у меня. Не могли бы вы на время куда-нибудь переехать?
— Конечно, могу. Переберусь к Вильчеку: у него большая квартира.
Дорогой они молчали. Только когда проезжали мимо особняка Кесслера, Зоська сильней прижалась к брату и начала тихо всхлипывать.
— Не плачь, все уладится! Мать тебя простит, с отцом я поговорю сам! Не плачь! — утешал Адам сестру, целовал заплаканные глаза, гладил по растрепанным волосам.
Ласковые слова брата так подействовали на нее, что она обняла его, уткнулась головой в грудь и, как ребенок, тихим, прерывающимся голосом стала жаловаться на свою несчастную долю, не обращая внимания на Горна.
Они устроили ее в комнате Адама, а он перебрался к Горну. Зоська закрыла дверь и даже не вышла к чаю.
Адам принес чай ей в комнату, она отпила несколько глотков, бросилась на кровать и мгновенно уснула.
Брат поминутно заглядывал к ней, накрывал, чем только мог, вытирал платком лицо — слезы и во сне струились из-под опущенных век.
— Догадываетесь, что произошло? — тихо спросил Адам, выйдя от сестры.
— Нет, нет! И очень прошу, ничего мне не говорите. Я вижу, как вам тяжело, и сейчас ухожу.
— Подождите минутку. Вы ведь слышали, не могли не слышать, что говорила Зоська?
— Я никогда не слушаю сплетни и никогда им не верю, — уклончиво отвечал Горн.
— Это не сплетни, а правда! — резко ответил Адам и встал.
— Что же вы намерены предпринять? — сочувственно спросил Горн.
— Я немедленно иду к Кесслеру! — решительно заявил Адам, и его зеленые глаза угрожающе сверкнули, как вороненое дуло револьвера, который он сунул в карман.
— Это ни к чему не приведет: со скотами нельзя разговаривать по-человечески.
— Попытаюсь, а не удастся, тогда…
— Что «тогда»? — перебил Горн, встревоженный его грозным тоном.
— Тогда поговорю с ним иначе… Там видно будет…
Горн пытался урезонить его, но Адам ничего не желал слушать, и только когда они прощались в воротах, в знак благодарности молча пожал ему руку и поспешно направился к дому Кесслера.
Но не застал его, а где он, никто сказать не мог.
Адам с ненавистью посмотрел на роскошный дворец, на блестевшие в лунном свете башенки и золоченые решетки балконов, на белые шторы на окнах и пошел к отцу на фабрику.
Старик Малиновский, как журавль, неутомимо ходил вокруг махового колеса; а оно огромной, чудовищной птицей металось в мрачной содрогавшейся башне и, отсвечивая холодным стальным блеском, то выныривало из темноты, то исчезало под полом, вращаясь с такой безумной быстротой, что невозможно было различить его контуры.
В башне стоял невообразимый грохот, и старик на ухо спросил сына:
— Нашел Зоську?
— Привез сегодня вечером.
Старик пристально посмотрел на него, еще раз обошел маховик, бросил взгляд на манометр, вытер поршни, которые, сочась маслом, с шипением ходили взад-вперед, прокричал что-то в рупор работавшим внизу машинистам и приблизился к сыну.
— Кесслер? — сдавленным голосом проговорил он, хищно скаля зубы.
— Он! Но предоставь это мне.
— Дурак! У меня с ним давние счеты. Не смей его трогать, слышишь?
— Слышу, но не отступлюсь.
— Посмей только! — угрожающе проворчал старик, поднимая, как для удара, огромный черный кулак. Где она?
— Мать выгнала ее из дома.
Он зашипел сквозь стиснутые зубы, и на его сером, изможденном лице из-под клочковатых бровей зловеще сверкнули темно-карие глаза.
Сгорбившись, медленно обходил он колесо, а оно, грозно рыча, слагало гимн укрощенной силе, с бешенством рвущейся на волю из содрогавшихся стен.
В маленькое пыльное оконце заглядывала луна, и в ее серебристом свете, как синий призрак, с воплем кружилось в дикой пляске огромное чудовище.
Не дождавшись от отца больше ни слова, Адам направился к выходу.
Тот вышел за ним и, стоя в дверях, сказал:
— Позаботься о ней… Как-никак наша кровь течет в ее жилах…
— Я взял ее к себе.
Отец обнял его железными ручищами и прижал к груди.
Зеленые глаза сына ласково, с безграничной любовью смотрели в карие затуманенные слезами отцовские глаза; они постояли так, глядя в упор друг на друга, словно хотели проникнуть взглядом в самую душу, и молча расстались.
Старик вернулся к машине и, обходя ее, вытирал замасленными пальцами глаза.
— Дело это верное, тут большими деньгами пахнет, понимаете? Я приобрел земельный участок, который купит — слышите! — непременно купит у меня Грюншпан, причем за такую цену, какую я запрошу, — толковал на другой день утром Вильчек ночевавшему у него Горну.
— Почему? — сонным голосом спросил Горн.
— Потому что к его фабрике с двух сторон примыкает мой участок, с третьей — Шаи Мендельсона, а с четвертой проходит улица. Грюншпан хочет расширить фабрику, но у него для этого нет места. Сегодня он явится ко мне, и вы увидите, какая у него будет забавная мина! Он три года торговался из-за этого участка с прежним владельцем, каждый год набавляя по сто рублей. Ему было не к спеху, вот он и выжидал, рассчитывая купить подешевле. Я случайно узнал об этом, заплатил, не торгуясь, сколько запросил мужик, и потихоньку приобрел землю. Теперь ждать буду я, мне спешить некуда, ха-ха-ха! — облизывая толстые губы и моргая глазами, весело смеялся Стах и потирал от удовольствия руки.
— А участок большой?
— Целых четыре морга. Пятьдесят тысяч рублей почитай что у меня уже в кармане.
— Мечтать, конечно, никому не возбраняется, — шутливо заметил Горн, ошеломленный этой цифрой.
— У меня нюх на такие дела! Грюншпан намерен возвести еще два корпуса примерно на две тысячи рабочих. И если ему придется строиться в другом месте, хотя бы на несколько сот метров дальше, расходы на строительство и устройство возрастут вдвое. Налить вам еще чаю?
— Не откажусь, если он горячий. Однако будущему миллионеру не пристало иметь такую выщербленную посуду, — сказал он, постучав ложечкой по фаянсовой чашке.
— Ничего! Придет время, из севрских пить будем, — небрежно ответил тот. — Я вас на несколько минут оставлю, — прибавил он, посмотрев в окно, и вышел в сени.
Из-за росших перед домом полузасохших вишневых деревьев показалось несколько бедно одетых старых женщин с кошелками в руках.
Горн тем временем оглядел жилище будущего миллионера.
Это была простая крестьянская изба с покосившимися, беленными известкой стенами, с убитым глиняным полом, покрытым кусками дешевого бумажного ковра с ярко-красным узором; через кривое оконце, занавешенное грязной занавеской, проникало так мало света, что комната с жалкой, точно подобранной на свалке, мебелью тонула во мраке, и только в устье деревенской печки блестел большой самовар.
На столе среди железного хлама, обрывков кожи и шпулек с образцами разноцветной пряжи валялось несколько книжек.
Горн стал листать книги, но, услышав через стекло плачущий женский голос, отложил их и прислушался.
— Пан Вильчек, одолжите десять рублей! Вы ведь знаете: Рухля Вассерман бедная, но честная женщина! У меня дело станет без денег, и нам всю неделю жить будет нечем.
— Без залога не дам!
— Пан Вильчек, я ведь верну! Всеми святыми клянусь, верну… Нам есть нечего… Дети, муж, старая мать ждут, что я принесу им хлеба. А откуда я возьму его, если вы не дадите в долг?..