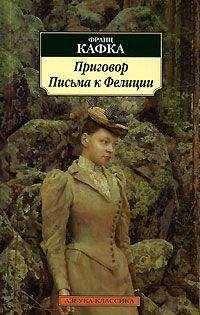Франц.
Любимая, благодарю Тебя за добрые слова, написанные в среду. В сущности, я почти и не сомневаюсь, что в этом деле мы с Тобой заодно и жить будем тоже заодно, но все-таки хорошо время от времени звякнуть этим домашним колокольчиком, этим глашатаем нашего будущего крова. – Так вот, чтение будет 10 ноября. Каждому из нас, Максу и мне, полагался свой вечер. Но поскольку прошение Макса об отпуске – на два дня и ради такого события – было отклонено и поехать он не сможет, я вызвался прочесть несколько его стихотворений, насколько хорошо – или насколько плохо – сумею. В этом цикле вечеров его имя не должно выпасть напрочь, уж пусть лучше он будет представлен плохим чтением, чем вовсе никак. Единственная заминка, которую я еще могу предположить, это возможные затруднения с мюнхенской цензурой. Хотя ума не приложу, к чему бы она могла придраться. – Вечером накануне отъезда идти еще на чтение Милана[121] – это, по-моему, чрезмерная горячность. Во-первых, он каждую зиму устраивает по несколько вечеров, во-вторых, при всей грандиозности его искусства хороший сон по меньшей мере ничуть не хуже, а в-третьих, Ты не должна являться на мое чтение сразу после него, под свежим впечатлением и с завышенными запросами, если Ты вообще намерена это сделать, что еще стоило бы взвесить и обсудить. Я прибываю в Мюнхен в 6.24 и в воскресенье в 7 утра еду обратно. – Почтальон уже снова доволен? Но он возвел на меня напраслину.
Франц.
Любимая, опять измучен ночами и головой, или головой и ночами, как Тебе угодно; они так и тянут ко мне свои изуверские руки-крюки. – На днях читал «Ритуальное убийство в Венгрии», трагедию Цвейга;[122] в неземных сценах она напыщенная и слабенькая, как я, собственно, и ожидал, судя по тому, что я читал у Цвейга прежде. Однако земные сцены покоряют жизненностью, которая, вероятно, по большей части проистекает из замечательных документов того процесса. Тем не менее одно от другого теперь отделить уже нельзя, он накрепко сросся с этим процессом и целиком стоит в его магическом круге. Я теперь вижу его иначе, чем прежде. В одном месте я даже вынужден был прервать чтение, сел на кушетку и расплакался.
Я уже много лет не плакал.
Франц.
Последнюю часть пути мы случайно не одним ли поездом едем? Я еду через Эгер.
Любимая, сегодня пришло письмо от четверга. Ты права, пора наконец нам поговорить. Если только чтение состоится. Другой программы, кроме представленной, у меня нет, да и не хочу я читать ничего другого. Так что если наверху это не одобрят, мне придется отказаться. Потому-то я так и боюсь этого цензурного барьера, иначе и говорить было бы не о чем. Очень хорошо было бы нам встретиться уже в дороге; для меня особенно хорошо, ибо тогда Тебе придется перебраться в третий класс, точнее, снизойти до третьего класса… – Фотографии все еще не пришли, надеюсь, пленка была вложена в аппарат не в упаковке?
Франц.
Любимая, только не письмо, не требуй от меня письма; будь у меня хоть что-то, столь же достойное сообщения о себе, как у Тебя в последнем письме, – мое перо само летало бы по бумаге, торопясь описать Тебе все это. А так – жизнь моя состоит из двух частей, одна за обе щеки уплетает Твою жизнь и сама по себе была бы вполне довольна, просто кум королю, но другая часть – как оторвавшаяся паутина, миг без встряски, миг без головных болей – вот и все ее высшее и отнюдь не частое блаженство. Что прикажешь делать с этими двумя половинками? Вот уже два года с тех пор, как я последний раз работал, а без способности и охоты к своей работе я просто ничто. Но теперь, надо надеяться, уже дней через десять-одиннадцать мы встретимся, и от этого счастливого ожидания тоже исходит слишком много беспокойства, чтобы писать подробно. Лишь бы только не встряло ничего!…
До свидания, до свидания!
Франц.
Любимая, днями, днями жду вестей – и все напрасно. В чем дело? Или последние мои открытки до Тебя не дошли? Но ведь они касаются сердцевины нашей совместной жизни. Не могу же я – если уж говорить сейчас только об этом – снова и снова именно от Тебя так легко, как бы невзначай, как нечто само собой разумеющееся, да еще с грозным призвуком непрестанности, принимать упрек в себялюбии. Он бьет наотмашь, ибо справедлив. Несправедливо только, что упрек этот высказываешь Ты, именно Ты, что Ты тем самым – пожалуй, поступком куда меньше, чем словами, – отрицаешь хоть какую-то правомерность этого себялюбия, которое ведь гораздо меньше, несравненно меньше отнесено к самой моей особе, нежели к моему делу. Конечно, полагаться на то, что хотя бы в отношении этого последнего я границу устанавливаю точно, – это дело Твоего ко мне доверия. Как бы там ни было: осознание мною собственной вины всегда достаточно сильно, оно не нуждается в подкормке извне, зато моя душевная организация сильна недостаточно, чтобы снова и снова, давясь, такую подкормку заглатывать.
Франц.
Любимая, я тоже именно так считаю, иначе как мне тогда жить в подобном состоянии (учитывая еще и головные боли). Я, правда, не убежден, что подобных размолвок[123] (гнусная кондитерская!) больше не будет между нами, но их горечь не будет усугублена напряженностью краткосрочного пребывания вместе, неопределенной и призрачной временностью, а потому, как выражение обычной людской жизни, будет переносимей. Ты будешь бить по камню, и на камне появятся легкие царапины. Он вынесет эти удары, если не расколется до срока, как придется вынести их и Твоей руке. Что касается меня, то – помимо сегодняшних, в порядке исключения (после Мюнхена) снова прорезавшихся головных болей – меня сейчас почти всецело занимают мысли о квартирном обмене и маленькие, но внутри той всеобщей негативной бездны, в которой я сейчас живу, все же позитивные надежды, с этим обменом связанные. Уже сам мой поход в квартирное бюро был немалым достижением. С тех пор три женщины не оставляют меня своей любезной и незаслуженной заботой – хозяйка квартирного бюро, домоправительница того дома, где я собираюсь жить, и служанка семейства, которое оставляет мне эту квартиру. А со вчерашнего дня к ним еще присоединилась – и вправду очень трогательно – моя мать. Больше ничего Тебе не скажу, до послезавтра, пока все не решится. —
Завтра Тебе будут высланы книги.
Франц.
Утром начал писать Тебе открытку, но меня отвлекли, и теперь я эту начатую открытку не могу найти. Обычно такое случается у меня лишь со служебными бумагами. Одним словом, неприятно. – Любимая, все было не так, как Ты считаешь. Похоже, Ты действительно не получила мою поздравительную телеграмму ко дню рождения. Сейчас доставка почты стала работать очень ненадежно. Я отправил телеграмму 17-го вечером. Она гласила: «Обнимаю издалека». – Может, текст слишком необычный, вот его и задержали. Я, быть может, еще обращусь с претензией. В настоящее время мысли мои, причем довольно грустные, по-прежнему сосредоточены главным образом на квартире. Решение опять на несколько дней оттягивается, и уверенность, что я эту квартиру получу, снова слегка пошатнулась. Чтоб Ты знала, речь идет о квартире из двух комнат без кухни, которая во всем, как мне кажется, соответствует самым разнузданным и заветным моим желаниям. Будет тяжкий удар, если она мне не достанется. Эта квартира вряд ли вернула бы мне внутренний покой, но все-таки дала бы возможность работать; врата рая не распахнулись бы, как встарь, настежь, но, быть может, мне предоставили бы в стене две щелочки для глаз… – Рождество? Я уехать не смогу.
Франц.
Любимая, вот уже несколько дней ничего. Уж не возомнила ли Ты, будто я тут живу как в раю. Быть может, относительный мой покой – всего лишь накопление недовольства, которое затем однажды ночью, как, например, прошлой, дойдя до предела, прорывается так, что хоть вой, и на следующий день (то есть сегодняшний) ты влачишь себя по белу свету, как собственное погребальное шествие. – Ты спрашиваешь об отзывах на вечер.[124] Я пока что получил только один – из «Мюнхнер Аугсбургер Цайтунг». Он несколько благоприятнее, чем первый, но, поскольку в основных оценках с первым совпадает, этот доброжелательный настрой только усиливает впечатление поистине грандиозной неудачи, которой все в целом обернулось. Я даже не стремлюсь получить остальные отклики. Как бы там ни было, я вынужден признать правомерность этих суждений почти полностью. Этой поездкой в Мюнхен, город, с которым в остальном у меня нет ни малейшей духовной связи, я погрешил против своих писаний; какого немыслимого гонора надо было набраться, чтобы после двухлетнего перерыва читать там что-то публично, хотя даже в Праге, лучшим своим друзьям, я вот уже полтора года ничего не читал. Кстати, уже здесь, в Праге, мне припомнились слова Рильке. Сказав что-то любезное о «Кочегаре», он потом заметил, что ни в «Превращении», ни в «Исправительной колонии» не достигнута та же степень последовательности. Замечание[125] далеко не во всем понятное, но наводит на размышления.