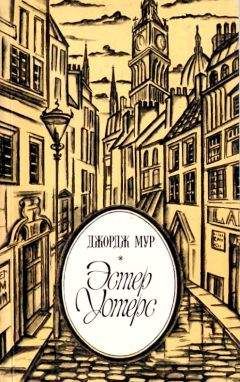— Мне жаль, что я больше ничего не могу для него сделать. Но вам потребуется сиделка, чтобы одеть его. Сейчас я ее пришлю.
Когда они помогли ему подняться с постели, Эстер ужаснулась, увидав, как исхудал бедняга. От него остались только кожа да кости. Впалая грудь, торчащие ребра, ноги как спички, и эта невиданная слабость — она была страшней всего, из-за нее им никак не удавалось его одеть. Наконец они все же кое-как управились. Эстер зашнуровала один башмак, сиделка — другой, и, опираясь на руку Эстер, Уильям в последний раз обвел глазами комнату. Рабочий обернулся к нему и сказал:
— Прощай, друг.
— Прощай… Прощайте все.
Сынишка клерка прижался к юбке матери — его напугало, что такой большой дядя едва держится на ногах.
— Подойди и попрощайся с этим господином.
Ребенок застенчиво шагнул вперед, протянул ручонку. Уильям поглядел на бледное маленькое личико, кивнул отцу ребенка и повернулся к двери.
Когда они спустились с лестницы, Уильям сказал, что хотел бы поехать домой на омнибусе. Доктор и сиделка принялись его отговаривать, но он настаивал; наконец Эстер попросила его отказаться от своей затеи ради нее.
— Они так громыхают, эти колымаги, особенно если окошки отворены, поговорить нельзя.
Извозчик затрусил по Пиккадилли, и пока он не спеша поднимался по крутой улице, взгляд умирающего был прикован к цепочке фонарей, опоясывающих Грин-парк, подобно огонькам какого-то далекого селения, и Эстер подумала, не приводит ли это Уильяму на память Шорхем, — когда-то она сама так же вот смотрела издали на его огни… А быть может, он думает о том, что больше ему не доведется поглядеть на Лондон, и говорит себе: «Неужто никогда, никогда не увижу я больше Пиккадилли?» Они миновали Сент-Джеймс-стрит. Показалась площадь; толпа проституток, праздношатающиеся гуляки перед входом в ресторан «Критерион». Уильям слегка подался вперед, и Эстер разгадала его мысли: ему уже не суждено больше переступить порог этого ресторана. Извозчик свернул влево, и Эстер сказала, что он проедет через Сохо и, вероятно, под Олд-Кэмптон-стрит, мимо их старого дома. Так и случилось. Глаза Эстер и Уильяма встретились. Что за люди подают теперь виски и пиво в их заведении? Они услышали крик мальчишек-газетчиков:
— Победитель скачек! Победитель! Победитель!
— Сегодня скачки. Гладкие скачки, без препятствий — в этом году они теперь будут идти одни за другими.
Эстер ничего не ответила. Кеб катился дальше по асфальтовой мостовой. Уильям спросил:
— Джек ждет нас?
— Да, он приехал еще вчера.
Блумсбери была окутана густым туманом. Выйдя из кеба, Уильям закашлялся и, обессиленный, прислонился к решетке. Нужно было расплатиться с извозчиком, а Эстер все никак не могла найти деньги. Неужто никто не отворит дверь? Эстер удивилась, увидав, что Уильям сам поднимается по ступенькам и тянется к звонку, и, разыскав наконец мелкую монетку, она поспешила за мужем. Он не захотел, чтобы она помогла ему подняться по лестнице.
— Я сам. Иди вперед, я за тобой.
Останавливаясь через каждые три-четыре шага, чтобы перевести дыхание, Уильям медленно поднялся до первой лестничной площадки. Эстер предложила принести стул, чтобы он мог отдохнуть. Дверь отворилась, и в освещенном проеме появился Джек.
— Это ты, мама?
— Да, мой дорогой, и папа со мной.
Мальчик хотел было подойти помочь, но мать прошептала ему на ухо:
— Папа хочет сам.
У Уильяма едва хватило сил добраться до комнаты; ему подали стул, и он повалился на него в полном изнеможении. Он обвел глазами комнату и, казалось, был доволен, что возвратился домой. Эстер дала ему молока, подлив в него немножко коньяку, и он мало-помалу ожил.
— Подойди ко мне, Джек, я хочу на тебя поглядеть. Встань поближе к свету, чтобы мне было лучше видно.
— Хорошо, папа.
— Нам недолго осталось быть вместе, Джек. И мне захотелось эти дни провести дома, с тобой и с мамой. Пока я еще могу немножко говорить. А завтра, может, уже и не смогу.
— Да, папа.
— Ты должен пообещать мне, Джек, что никогда не будешь ходить на скачки и не будешь делать ставок. Нам с твоей матерью это не принесло счастья.
— Хорошо, папа, не буду.
— Ты обещаешь, Джек? Дай руку. Обещаешь?
— Да, папа, обещаю.
— Теперь-то я все хорошо понял. Твоя мать, Джек, — лучшая женщина на земле. И она крепче любила тебя, чем я. Она много трудилась, чтобы прокормить тебя… Это очень печальная история. Бог даст, тебе не доведется ее услышать.
Глаза Эстер и Уильяма встретились, и взгляд жены был порукой мужу, что сын никогда не узнает о том, как его мать была брошена отцом.
— Твоя мать всегда была против игры на скачках, Джек, всегда говорила, что это нас погубит. Я был одно время обеспеченным человеком, но потерял все. Деньги надо добывать трудом, иначе от них не будет добра.
— А я считаю, что и ты вкладывал немало труда, чтобы выиграть, — сказала Эстер. — Дни и ночи ездил с одного ипподрома на другой. Торчал там в любую, погоду. Вот и схватил простуду, а с этого все и пошло.
— Да, труда я вкладывал немало, что верно, то верно. Только вкладывал его не туда, куда нужно… Я не хочу с тобой спорить, Эстер, но я теперь все понял. Ты всегда была права. Если деньги нажиты не простым, честным трудом, от них добра не будет.
Уильям снова отхлебнул горячего молока с коньяком и взглянул на заливавшегося горькими слезами Джека.
— Не нужно так плакать, Джек. Я хочу, чтобы ты послушал, что я скажу. Я еще не все тебе объяснил. Твоя мать, Джек, — самая лучшая женщина на свете. Ты пока слишком мал, чтобы понять, какая она хорошая. Я сам долго этого не понимал, но потом пришло время, когда я все понял, — и ты поймешь, Джек, когда подрастешь. Я надеялся дожить до такого дня, когда ты станешь мужчиной, Джек, и мы с твоей матерью думали, что нам удастся оставить тебе немножко деньжат. Но все эти деньги, которые я сберегал для тебя, ухнули. И больнее всего мне то, что я оставляю тебя и твою мать в таком же бедственном положении, в каком она была, когда я женился на ней. — Уильям тяжело вздохнул, а Эстер сказала:
— Ну, что толку говорить об этом, только растравлять себя понапрасну.
— Нет, я должен говорить, Эстер. Я бы умер спокойно, если бы знал, что у тебя с сыном жизнь налажена. Теперь тебе придется работать на него, как ты работала прежде. Все словно бы начинается сызнова.
По его щекам покатились слезы; он закрыл лицо руками и зарыдал, потом рыдания перешли в приступ кашля. Внезапно из горла у него хлынула кровь. Джек бросился за доктором, но все усилия эскулапа остановить кровотечение были тщетны.
— Есть еще одно средство, — сказал доктор, — но если и оно не поможет, вам придется приготовиться к худшему.
Однако это последнее средство возымело свое действие, и кровотечение прекратилось. Уильяма раздели и уложили в постель. Доктор сказал:
— Завтра он не должен вставать.
— Завтра ты будешь лежать в постели и постараешься восстановить силы. Ты слишком переутомился сегодня.
Эстер передвинула кровать мужа в самый теплый угол, поближе к камину, а себе соорудила под окном нечто вроде постели, чтобы немножко вздремнуть, — она знала, что как следует поспать ей не удастся. Не раз за ночь нужно будет встать, чтобы поправить больному подушки, напоить его молоком или водой с каплей коньяка.
Ночь прошла, наступил рассвет, потом день вступил в свои права, и около полудня Уильям стал просить, чтобы его подняли с постели. Эстер пыталась отговорить его, но Уильям заявил, что он больше лежать не в силах, и Эстер не оставалось ничего другого, как попросить миссис Коллинз помочь ей одеть мужа. Они постарались поудобнее устроить его в кресле. Уильяму как будто стало получше, кашель утих, и в ночь с субботы на воскресенье он спал так крепко, как не спал уже давно, а проснувшись поутру, почувствовал, что сон освежил его, да и с виду он казался окрепшим. За обедом он съел основательный кусок тушеного кролика. Говорил он мало, и Эстер казалось, что больной все еще продолжает размышлять над судьбой семьи. Часа в четыре, когда начало смеркаться, он подозвал к себе сына, велел ему сесть поближе к окну, так, чтобы он мог его видеть, и устремил на него печальный, задумчивый взор. Столь тягостным было это безмолвное прощанье, что Эстер отвернулась, чтобы скрыть слезы.
— Как бы мне хотелось увидеть тебя взрослым мужчиной, Джек.
— Не говори так, папа… Не могу я этого слышать, — сказал бедный мальчик и расплакался. — Может быть, ты еще не умрешь.
— Нет, Джек, для меня уже все кончено. Я чувствую, что здесь, — сказал он, указывая на грудь, — уже не осталось ничего, чтобы продлить жизнь… Это меня господь покарал.
— Покарал тебя? За что, папа?
— Я не всегда поступал хорошо с твоей мамой, Джек.
— Уильям, прошу тебя, сделай милость, не говори об этом больше.