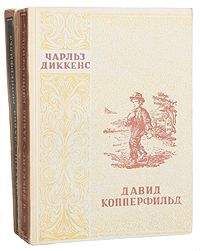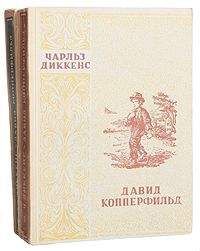Я стоял у одного из окон гостиной и смотрел на дома по ту сторону старинной улицы, и мне вспомнилось, как в первое время моей жизни здесь, я, бывало, в дождливые сумерки следил за тем, что делается в этих домах; вспомнилось, как я строил предположения относительно людей, появлявшихся в окнах, как я провожал глазами поднимавшихся и спускавшихся по лестницам; вспомнился мне стук деревянных подошв женщин по тротуару, косой дождь, переполнявший водосточные трубы и заливавший улицу. И я так живо переживал жалость, с которой в те сырые сумерки я смотрел на проходящих прихрамывающих пешеходов с их узелками за спиной на конце палки, что мне казалось, будто я снова чувствую запах мокрой земли, листьев, колючек, ощущаю самое дуновение ветерка во время моих собственных тяжелых странствований.
Вдруг скрипнула маленькая дверь. Я вздрогнул, оглянулся, и мои глаза встретились с чудесными ясными глазами Агнессы. Она остановилась и схватилась руками за сердце. Я бросился к ней и обнял…
— Агнесса, дорогая моя девочка, я напугал вас!
— Heт, нет! Я так рада видеть вас, Тротвуд!
— А какое для меня счастье снова видеть вас, дорогая Агнесса!
Я прижал ее к своему сердцу, и некоторое время мы оба молчали… Затем мы сели с ней рядом, и она с приветливой улыбкой повернула ко мне свое ангельское личико, личико, о котором я так мечтал все эти годы!
Она была такая красивая, хорошая, искренняя! Я так был ей обязан, так дорога была она мне, что я не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Я пытался было говорить, но любовь и радость делали меня немым.
С милым, свойственным ей одной спокойствием Агнесса вывела меня из моего смятения. Она заговорила о времени перед нашей разлукой, об Эмилии, которую тогда тайком не раз навещала, с нежностью упомянула о могиле Доры. Благодаря непогрешимому инстинкту своего благородного сердца она до того деликатно прикасалась к струнам моей памяти, что ни одна из них не задребезжала. И я прислушивался к этой грустной, издалека доносившейся мелодии, не страдая от пробуждаемых ею в моей душе воспоминаний. Да и как это могло быть, когда с этими всеми воспоминаниями сливалась она, Агнесса, ангел-хранитель моей жизни!
— А как вы, Агнесса? — спросил я, когда она умолкла. — Расскажите мне о себе. Ведь все эти годы вы о себе почти ничего не сообщали!
— Что же мне рассказать вам! — промолвила она со своей лучезарной улыбкой. — Папа здоров. Живем мы с ним спокойно в нашем собственном, возвращенном нам доме. Тревоги наши рассеялись. A раз вы знаете это, дорогой Тротвуд, то вы все знаете.
— Все, Агнесса? — спросил я.
Удивленная и несколько смущенная, она посмотрела на меня.
— И, кроме этого, ничего другого, сестрица? — снова спросил я.
Она побледнела, покраснела и снова побледнела, потом, как мне показалось, спокойно-грустно улыбнулась и покачала головой. Я хотел навести ее на то, на что намекала мне бабушка. Как ни горько было мне услышать ее признание, но надо же было образумить свое сердце и исполнить долг брата относительно нее. Однако, видя, что ей не по себе, я заговорил о другом.
— У вас много работы, дорогая Агнесса?
— Со школой? — спросила она, уже смотря на меня со своим обычным безмятежным спокойствием.
— Это, должно быть, очень утомительно, — заметил я.
— Работа с девочками так приятна, что было бы просто неблагодарно с моей стороны назвать ее трудной, — возразила Агнесса.
— Я знаю, хорошее дело для вас никогда не трудно, — сказал я.
Снова она покраснела, потом побледнела, и, когда опустила голову, я заметил на ее губах ту же грустную улыбку.
— Вы ведь подождете папу, — вдруг весело заговорила она, — и проведете с нами весь день? Не правда ли? А может быть, вы и переночуете в вашей собственной комнате? Мы всегда зовем ее вашей.
Я ответил, что ночевать не могу, так как обещал бабушке вернуться к ночи, а целый день проведу с ними с превеликим удовольствием.
— Я на некоторое время должна вас оставить, — сказала Агнесса, — но в вашем распоряжении, Тротвуд, старые ваши друзья: книги и фортепиано.
— Даже цветы прежние! — воскликнул я. — Во всяком случае, такие же, как прежде!
— Во время вашего отсутствия, — сказала с улыбкой Агнесса, — мне доставляло большое — удовольствие приводить все в доме в тот самый вид, в каком он был в годы нашего детства. Ведь, по-моему, тогда мы были очень счастливы с вами!
— Еще как счастливы! — воскликнул я.
— И всякая вещица, напоминавшая мне о моем братце, была для меня приятным компаньоном, — весело прибавила Агнесса, глядя на меня своими милыми глазами. — Даже это, — указала она на корзиночку, наполненную ключами, висевшую у ее пояса, — даже это напоминало мне своим звяканьем наше доброе старое время.
Она еще раз улыбнулась и вышла в ту же дверь, в которую вошла.
Теперь мне надо было благоговейно хранить ее сестрину привязанность. Это все, что мне оставалось и было драгоценно. Если б я поколебал ее дружеское доверие, вошедшее в привычку, все могло погибнуть навсегда и безвозвратно. Я прекрасно сознавал это, и чем сильнее я любил Агнессу, тем больше надо было не забывать об этом.
Я пошел пройтись по улицам. Когда я увидел мясника (теперь он был констеблем) и атрибут его служебного положения — дубинку, висевшую тут же, мне захотелось побывать на том месте, где некогда происходил наш с ним поединок. Очутившись здесь, я предался воспоминаниям о мисс Шеферд, о старшей мисс Ларкинс, о всех этих пустых увлечениях того времени, неизменно кончавшихся разочарованиями. Из всего этого для меня продолжала существовать одна Агнесса, и она, бывшая всегда для меня лучезарной звездой, теперь сияла еще выше, еще ярче…
Вернувшись, я застал дома мистера Уикфильда; он уже пришел из своего сада, находящегося милях в двух от города, где он почти ежедневно работал. Я нашел его именно таким, каким мне его описывала бабушка. Он казался лишь тенью своего великолепного портрета, висевшего на стене.
Обедали мы в обществе пяти-шести девочек, учениц Агнессы. Мир и спокойствие, издавна неразрывно связанные в моей памяти с этим домом, теперь снова воцарились в нем. Так как после обеда мистер Уикфильд не пил вина, а я также от него отказался, то мы с ним тотчас же поднялись в гостиную. Здесь Агнесса и ее маленькие воспитанницы работали, пели и играли. После чая девочки ушли спать, а мы, оставшись втроем, заговорили о минувших днях.
— Я о многом в прошлом могу очень пожалеть, во многом могу горько раскаиваться, — сказал мистер Уикфильд, качая седой головой. — Вам хорошо это известно, Тротвуд. Но, представьте, если бы даже я был в силах, то ничего не вычеркнул бы из того, что было.
Я легко мог этому поверить, видя подле него лицо его дочери.
— Зачеркивая свое печальное прошлое, — продолжал мистер Уикфильд, — я должен был бы вместе с тем вычеркнуть терпение, преданность, верность, дочернюю любовь, а сделать это я не хотел бы даже такою ценой.
— Понимаю вас, сэр, — тихо промолвил я. — И теперь и всегда я с благоговением отношусь и относился к вашим отцовским чувствам.
— Но никто не знает, даже и вы, Тротвуд, — горячо прибавил он, — что только сделала, что вытерпела, какую тяжелую борьбу вынесла она, дорогая моя Агнесса!
Желая заставить отца замолчать, Агнесса с умоляющим видом положила руку ему на плечо и была очень бледна при этом.
— Ну, хорошо, хорошо, — проговорил со вздохом мистер Уикфильд, отказываясь, как мне показалось тогда, от намерения рассказать о тех тяжелых переживаниях дочери, которые могли иметь отношение к тому, на что намекала бабушка. — Я ведь вам, Тротвуд, никогда не рассказывал о матери Агнессы. Быть может, вы слыхали о ней от кого-нибудь другого?
— Нет, сэр.
— Рассказ будет недолог, хотя выстрадано было много. Она вышла за меня замуж против воли отца, и тот отрекся от нее. Ожидая появления Агнессы, она молила его о прощении. Но это был человек очень суровый, а мать ее давно умерла, и он оттолкнул ее, разбил ей сердце.
Агнесса тут оперлась на плечо отца и обняла его за шею.
— У нее было кроткое, любящее сердце, — продолжал мистер Уикфильд, — и оно было разбито. Я знал, как оно нежно… кто мог знать это лучше меня? Она горячо любила меня, но счастлива никогда не была. Втайне изнывала она под гнётом горя. И вот, когда отец в последний раз оттолкнул ее, — много раз она молила его, — бедняжка, будучи слабого здоровья и постоянно в подавленном состоянии духа, зачахла и умерла. Она оставила мне двухнедельную Агнессу и седые волосы, которые, помните, вы видели у меня, впервые появившись у нас. — Тут он поцеловал Агнессу. — Любовь к дорогой крошке у меня была нездоровая, да и вся моя душа была больна. Но об этом я не стану распространяться: ведь я не о себе хотел говорить, а о ее матери и о ней самой. Какова вообще Агнесса, мне излишне говорить, но я всегда находил, что на ее характере отразилась грустная история ее матери. Именно это я и хотел сказать вам сегодня, когда мы снова втроем — после таких больших перемен… Ну, я кончил.