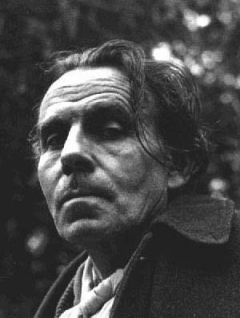На мой взгляд, Баритон все неизлечимей заражался мышлением. Когда мы дошли до конца безжалостного раздела, где описывается высадка Монмута[100] на берегу ненадежного Кента[101] в момент, когда Претендент сам больше не отдает себе отчета, на что, собственно, притязает, что намерен предпринять, с какими целями прибыл, и где он признается себе, что рад был бы бежать, но не знает — куда и как, и перед ним встает перспектива поражения, а море при бледном свете зари рассеивает его последние суда, и Монмут в первый раз начинает думать… Баритону, маленькому человеку, тоже не удавалось переступить через собственное решение. Он читал и перечитывал этот отрывок, бормотал его вслух. Потом подавленно закрывал книгу и растягивался рядом с нами.
Полузакрыв глаза, он даже твердил текст наизусть с самым лучшим английским акцентом из всех разновидностей бордоского выговора, какие я предоставил ему на выбор. От авантюры Монмута, где все жалкое и смешное, что есть в нашей ребячливой и трагической натуре, распоясывается, так сказать, перед вечностью, Баритон в свой черед испытывал головокружение, а так как с нашей заурядной судьбой его связывала теперь лишь тонкая нить, он выпустил перила из рук… С этой минуты — могу теперь в этом признаться — он уже оторвался от мира сего. Он больше не мог.
В конце того же вечера он попросил меня к себе, в директорский кабинет. При сложившихся обстоятельствах я уже был готов услышать от него какое-нибудь бесповоротное решение — например, что он немедленно меня увольняет. Ничего подобного! Напротив, решение, принятое им, было исключительно благоприятно для меня. А поскольку судьба была ко мне благожелательна чрезвычайно редко, я не сдержался и прослезился. Баритон истолковал мое волнение как признак горя и теперь уже сам принялся меня утешать.
— Я думаю, вы не усомнитесь в моей искренности, Фердинан, если я заверю вас, что мне понадобилось нечто большее и лучшее, чем просто мужество, для того чтобы решиться покинуть этот дом. Мне, чье домоседство вам известно, мне, в сущности почти старику, вся карьера которого была долгой, упорной, добросовестной проверкой стольких длительных или мгновенных происков. Как я за несколько месяцев дошел до отказа от всего этого? Возможно ли? И тем не менее я душой и телом пребываю сейчас в состоянии благородной отрешенности. Hurra! — как говорят в вашей Англии, Фердинан. Мое прошлое чуждо мне. Я возрождаюсь, Фердинан. Очень просто — уезжаю. О, ваши слезы, мой добрый друг, не смягчат того непримиримого отвращения, которым я проникся ко всему, что удерживало меня здесь в течение стольких бессмысленных лет. С меня хватит. Довольно, Фердинан! Повторяю вам — я уезжаю. Бегу. Спасаюсь. Конечно, это разрывает вам сердце. Знаю. Вижу. Так вот, Фердинан, ни за что на свете, ни за что, вы не заставите меня изменить решение, слышите? Даже если у меня вывалится глаз прямо в здешнюю грязь, я не вернусь, чтобы подобрать его. Сомневаетесь вы теперь в моей искренности?
Ни в чем я больше не сомневался. Баритон был способен решительно на все. Думаю даже, что, посмей я перечить ему в таком состоянии, это пагубно сказалось бы на его разуме. Я дал ему передохнуть и вновь попытался смягчить его, отважившись на последнюю попытку вернуть Баритона к нам. Прибег к слегка видоизмененным доводам, к милым обинякам…
— Бога ради, Фердинан, оставьте надежду вынудить меня изменить решение. Повторяю, оно бесповоротно! Вы обяжете меня, прекратив всякие разговоры об этом. В последний раз спрашиваю, Фердинан, согласны вы доставить мне эту радость? В моем возрасте у человека редко появляются новые влечения. Это факт. Но мое — безраздельно.
Таковы были его собственные слова, едва ли не последние, произнесенные им. Я повторяю их дословно.
— Быть может, дорогой мсье Баритон, — отважился я все-таки перебить его, — быть может, неожиданные каникулы, которые вы расположены себе позволить, явятся в конечном счете всего лишь несколько романтическим эпизодом, желанной передышкой, счастливым антрактом в слишком суровом течении вашей карьеры? Быть может, изведав иную жизнь, более разнообразную, не столь банально размеренную, как наша, вы все-таки вернетесь обратно, довольные своей поездкой и пресытясь неожиданностями? Естественно, вы займете свое место во главе нас. Гордый своими приобретениями. Целиком обновленный и, несомненно, более снисходительный отныне к нашей повседневной трудовой рутине… Постарев, наконец, если вы позволите мне так выразиться, мсье Баритон.
— Какой же вы льстец, Фердинан! Вы еще находите способ затронуть мою мужскую гордость, чувствительную и даже требовательную, которую я ощущаю в себе вопреки усталости и былым испытаниям. Нет, Фердинан. Вся ваша изобретательность не сумеет за одно мгновение сделать благотворным то, что мерзко, враждебно и мучительно самим глубинам нашей воли. К тому же, Фердинан, времени колебаться и менять решение у меня больше нет. Признаю честно и откровенно, Фердинан: я опустошен, отупел, побежден! Сорока годами благоразумной мелочности. Это уже страшно много! Какую я намерен предпринять попытку? Хотите знать? Могу вам ответить, мой лучший друг, проявивший такое восхитительное участие к страданиям потерпевшего поражение старика. Я хочу, Фердинан, увести свою душу на смерть, как уводят подальше умирать шелудивого вонючего пса, былого своего спутника, который внушает теперь только отвращение… Словом, остаться одному, быть спокойным, стать самим собой.
— Но, дорогой мсье Баритон, я ошеломлен каждым вашим словом: я ведь никогда не замечал за вами ни того неистового отчаяния, которое вы передо мной сейчас раскрыли, ни предъявляемых вами к себе немыслимых требований. Напротив, ваши повседневные замечания еще нынче казались мне безупречно дельными… Ваши начинания — бодрыми и плодотворными… Ваше медицинское вмешательство — глубоко продуманным и методичным… Я напрасно искал бы в вашем ежедневном поведении хоть какие-либо признаки упадка… Честное слово, я никогда ничего подобного не замечал!
Но в первый раз с самого нашего знакомства с Баритоном мои комплименты не доставляли ему никакого удовольствия. Он даже любезно попросил меня не продолжать разговор в таком хвалебном тоне.
— Нет, дорогой Фердинан, уверяю вас… Конечно, эти драгоценные свидетельства вашей дружбы скрашивают мне — и самым неожиданным образом — последние минуты пребывания здесь, но никакие ваши заботы не сделают для меня терпимым воспоминание о прошлом, которое удручает меня и которым пропитаны эти места. Я хочу любой ценой, слышите, при любых условиях удалиться…
— Но что будет с нашим учреждением, мсье Баритон? Об этом вы подумали?
— Конечно, подумал, Фердинан. Управление на время моего отсутствия примете на себя вы, и все тут. Вы же всегда были в превосходных отношениях с нашими больными. Ваше руководство встретят без всякого сопротивления. Все будет хорошо, Фердинан. Суходроков, поскольку он не выносит разговоров, займется оборудованием, аппаратами и лабораторией. Он в этом разбирается. Таким образом, все устроится вполне разумно. Кстати, я разуверился в чьей бы то ни было незаменимости. С этой стороны, мой друг, я тоже сильно изменился.
Действительно, он был неузнаваем.
— А вы не боитесь, мсье Баритон, что ваш отъезд будет неблагоприятно истолкован нашими конкурентами по соседству? Например, в Пасси? В Монтрету? В Гарлан-Ливри? Словом, во всей округе? Теми, кто шпионит за нами? Неутомимо завистливыми коллегами? Как они объяснят ваше благородное добровольное изгнание? Как назовут его? Выходкой? Шалостью? Банкротством? Да почем я знаю как?
Вероятно, о такой возможности он долго и мучительно раздумывал еще раньше. Это смущало его и теперь: он побледнел на моих глазах.
Для его дочки, нашей невинной Эме, все это явилось грубым ударом судьбы. Баритон отослал ее в провинцию на попечение одной из теток, совершенно, в сущности, ей незнакомой. Таким образом, все его личные вопросы были улажены, и нам с Суходроковым осталось только в меру своих способностей управлять его имуществом и делами. Плыви, корабль, без капитана.
После таких признаний я счел, что могу позволить себе спросить хозяина, в какие края он намерен направиться в поисках желанной авантюры.
— В Англию, Фердинан, — не моргнув глазом ответил он.
Разумеется, случившееся с нами за такой короткий срок нам предстояло еще переварить, но приспособиться к новому порядку вещей следовало как можно быстрее.
На следующий день мы с Суходроковым помогли Баритону уложиться. Паспорт с обилием страничек и виз несколько озадачил его. До сих пор он не держал паспорта в руках. Ему тут же захотелось получить несколько запасных дубликатов. Мы сумели убедить его, что это невозможно.