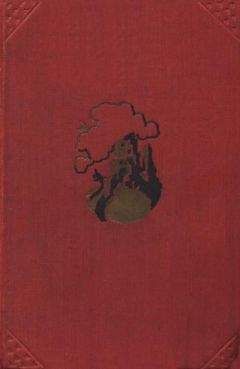Через сенсуалистическую нравственность, через воссоединение человека с природой Фр. Шлегель приближается одновременно и к прогрессивнейшим буржуазным убеждениям (разрушение патриархальности, многообразнейшие виды свобод и эмансипации) и к самым темным реакционным взглядам. Это последнее получается, когда он для своих абстрактных воззрений ищет исторической опоры, когда задумывается о том, куда, в какую историческую почву может пустить корни его освобожденный, «чувственный», воспитанный «чувством плоти» человек. В «Идиллии» восхваляется праздность, пассивное существование. В той же «Идиллии» обесценивается миф о Прометее. Античный Прометей попал в молодую буржуазную поэзию как символ технической цивилизации, как гениальный шеф труда, индивидуализма и свободной мысли. «Идиллия» Фр. Шлегеля отвергает все эти ценности; она против труда, против мысли, против богоборчества; она за «божественного человека», подобного «растению»; совершенной жизнью Фр. Шлегель именует «чистое прозябание» (reines Vegetieren).
Такова «Люцинда». Автор проповедует прогрессивную буржуазно-европейскую нравственность, но когда он задумывается о том, как реально осуществить в Германии эту реальную по своему духу мораль, то идет на сделку с наличными немецкими условиями — растительным стилем мещанского общества. Разрушение категорического императива и аскетической морали ведет к отказу от социальных утопий, к художественной реабилитации существующего общественного уклада. Когда Фр. Шлегель в «Двух письмах» обещает гимны «очагу», мещанской собственности и «достоинству домоводства (Würde der Häuslichkeit), это приобретает действительно угрожающий смысл.
«Люцинда» — роман, чрезвычайно характерный для кризиса раннего романтизма. Здесь первоначальная абстрактная романтика, царство «иронии» колеблется. Заходит речь об универсальности, о синтезе, о космическом охвате всерьез, взаправду, без иронических и игривых уверток. «Реализм» обусловлен здесь сознательным переходом за границу спиритуалистической нравственности, свойственной мелкобуржуазным радикалам и уравнителям, ревнивым сторожам «добродетели» и отчужденности от внешнего мира. Сначала это кажется движением вперед, но вскоре обнаруживается, что на деле имеет место полюбовное соглашение со старым порядком, со всем исторически установленным и существующим. Здесь Уже содержится предвосхищение образа мыслей позднего Шлегеля, для которого и романтическая ирония и все эмансипаторские идеи — глубокая ошибка, а «универсальность» и реальные синтезы возможны только под покровительством римской церкви и Священной римской империи.
Друзья романтики встретили «Люцинду» равнодушно. Август Шлегель, родной брат автора, знаменитый литературный критик, вопреки родственным чувствам, порицал эту «глупую рапсодию». Шеллинг возмущался романом. Тик говорил, что «Люцинда» — произведение безвкусное. К этому времени романтики были уже далеки и от Фихте и от иронии, от идейных мотивов, которые в «Люцинде» еще формально господствовали. Только Шлейермахер разглядел скрытые замыслы романа, понял, что Фр. Шлегель ощупью идет к тем же идеям и целям, которые ставит себе вся группа Новалиса. Шлейермахер выпустил целую книжку похвальных комментариев к роману Шлегеля («Vertraute Briefe über Lucinde», 1799). Критика Шлейермахера стала постоянным провожатым «Люцинды» сквозь всю историю немецкой литературы, и ее нельзя отделить от романа.
Шлейермахер совершенно пренебрег индивидуалистической и иронической формой «Люцинды» и все внимание направил на задатки космического пафоса, свойственные этому произведению.
«Ничто божественное нельзя без святотатства разложить на элементы духа и тела, произвола и природы», — писал Шлейермахер.
Дурны спиритуалисты, для которых любовь есть только слабость; но чувственники типа Виланда или Кребильона тоже дурны. Для древних любовь — «изобилье жизненных сил», «чувственное цветенье», и в этом своем качестве любовь божественна. Современная культура признает в любви только «интеллектуальную мистическую часть ее». Вся «тайна» — в философии тождества; нужно мирить и древних и новых в синтезе; тогда «тайна» будет «распечатана», и обе односторонности сойдутся. Для Шлейермахера в «Люцинде» уже дан образ целостного человечества, не страдающего противоречием духа и тела; он оценивает ее как роман любви, в смысле «вселенских» пантеистических философствований — своих собственных, Новалиса, Тика тех лет и Шеллинга.
В комментаторской переписке, которую затеял Шлейермахер, ставятся и вопросы чисто литературные — вопросы поэтики романа. Один из важнейших адресатов этих писем критикует смысловую композицию «Люцинды», требует, чтобы Юлию и Люцинде был дан общественный фон. Изоляция индивидуальных душевных состояний недопустима; нужно знать и видеть Люцинду и Юлия во всем объеме их общественной практики, а Шлегель представил их только как любовников.
«Любовь не представлена полностью, мне очень недостает в этом романе внешнего мира».
На это следуют возражения: отсутствие внешнего мира есть как раз авторская заслуга; именно так и нужно: заботиться не о внешнем мире, а о внутреннем.
Отрицается литературный метод, «группирующий вокруг себя тысячу незначащих мелочей, так как он слишком пренебрегает внутренним миром, чтобы довольствоваться им».
Достоинства «Люцинды» — «простейшая композиция», с «выдвинутыми фигурами», имеющими «крупный масштаб». Великое благо в том, что за этими фигурами пропадает «обстановка» и все «новеллистическое» (Novellenartige): «обильные драпировки», «большие человеческие массы, сложные отношения и происшествия».
Эти тезисы поэтики Шлейермахера показывают, насколько он, как и другие романтики, при всяческих апологиях телесного бытия и чувственности, был далек от материалистического миропонимания. Этот синтез физического и духовного должен был, по их мысли, произойти на основе духовного. Космизм и конкретность романтики подгоняли под категории религиозного мировоззрения.
Сам автор «Люцинды», покорный общему течению романтизма, так и не развил буржуазно-прогрессивных идей, намеченных в романе. Он отрекся и от лозунгов свободы, и от лозунгов индивидуализма, превратившись в католического «объективиста». Но роману была суждена будущность независимо от автора.
Роман был счастливее многих других произведений раннего романтизма, его помнили дольше и дольше к нему обращались.
«Молодая Германия», литературное содружество мелкобуржуазных радикалов 30-х годов, чтила «Люцинду», находя в ней отзыв своим настроениям; младогерманцы следовали Сен-Симону, мечтали об «эмансипации плоти», о женском равноправии; «Люцинда» казалась им предвосхищением.
Карл Гуцков, вождь младогерманцев, переиздал в 1835 г. «Доверенные письма» Шлейермахера, присоединив к ним предисловие, полное бурного сочувствия к «Люцинде».
«С отраднейшим чувством я бросаю эту ракету в удушающий воздух протестантской теологии и жеманства», — писал Карл Гуцков.
Фридрих фон Гарденберг, известный в литературе под псевдонимом «Новалис», был центральным лицом среди иенских романтиков, писателем, наиболее дальновидно и обобщенно осуществившим идейную программу иенского круга. Фрагменты Новалиса «Вера и любовь», появившиеся в июльской тетради «Ежегодников Прусской монархии» за 1798 г., его трактат «Христианство и Европа», непонятый никем из иенских друзей и напечатанный впервые только много лет спустя после смерти автора, — все эти писания преждевременно знакомили посвященных и непосвященных с политическим содержанием новообъявленной философской и художественной доктрины. Ни Шеллинг, ни Шлегели, ни Тик, ни Шлейермахер еще не догадывались, что означают их стремления, кому и чему служит романтизм, куда он поведет и чем окончится. Новалис же пространно разъяснил, что все романтическое движение способствует «христианству» в его борьбе с «Европой», что новое ученье есть похвала старому феодальному миру, защита его ослабевших прав и всеобъемлющая критика порядка вещей, созданного буржуазной революцией.
Политическая сознательность была родовым достоянием Новалиса. Как дворянский идеолог, как представитель того класса, который в Германии более других привык управлять и мыслить политически, Новалис в вопросах исторического и социального самоопределения опережал и превосходил своих литературных единомышленников, этих мелкобуржуазных мечтателей, веривших в самодовлеющее значение философских и художественных манифестаций. Среди закоренелых «виртуозов» (таков был романтический термин) логики, эстетики и других изящных дисциплин Новалис был литератором менее всего литературным, менее всего преданным писательскому цеху. Он говорил Юсту, своему будущему биографу: