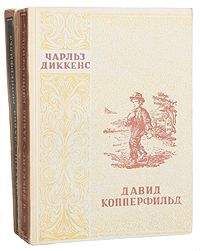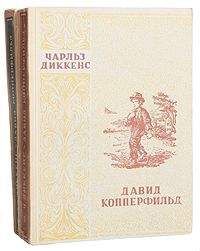Тут, очевидно, чтобы еще больше просветить нас, неофитов, был дан приказ вывести из камеры и Номера Двадцать Восемь.
Я был уже приведен в такое состояние изумления, что когда появился мистер Литтимер, читая нравоучительную книгу, это на меня как-то мало подействовало.
— Номер Двадцать Восемь, — обратился к нему молчавший до сих пор джентльмен в очках, — на прошлой неделе вы жаловались на плохое качество какао. Стало ли оно с тех пор лучше?
— Благодарю вас, сэр, — ответил мистер Литтимер, — какао стало лучше. Только, если бы я мог взять на себя такую смелость, я сказал бы, что оно приготовляется не на цельном молоке, но я знаю, сэр, что в Лондоне разбавляют молоко я, конечно, очень трудно достать цельное.
— Каково ваше душевное состояние, Номер Двадцать Восемь?
— Благодарю вас, сэр, — ответил мистер Литтимер, — теперь я вижу свои заблуждения, сэр! И очень сокрушаюсь, думая о грехах моих прежних товарищей, сэр! Но я верю, что они могут обрести прощение.
— Вполне ли вы счастливы?
— Весьма вам обязан, сэр, я совершенно счастлив.
— Заботит ли вас теперь что-либо? Если да, то говорите откровенно, Номер Двадцать Восемь.
— Сэр, — заговорил мистер Литтимер, не поднимая глаз, — если я не ошибаюсь, здесь находится джентльмен, знавший меня в прежней жизни. Этому джентльмену могло бы быть полезно знать, что я всецело приписываю свое прежнее дурное поведение рассеянной жизни, которую вел, находясь в услужении у молодых людей. Я позволял себе итти за ними, не имея сил сопротивляться соблазнам. Надеюсь, сэр, что джентльмен примет мое предостережение, не обижаясь на мою вольность. Оно имеет в виду его пользу. Я сознаю свои прошлые заблуждения и хочу надеяться, что и джентльмен может раскаяться во всем дурном и греховном, в чем он принимал участие.
Я заметил, что некоторые джентльмены заслонили глаза рукой, как это принято при входе в англиканскую церковь.
— Это делает вам честь, Номер Двадцать Восемь! Впрочем, ничего другого я и не ожидал от вас! Имеете ли вы еще что-либо сказать?
— Сэр, — ответил мистер Литтимер с потупленным взором, слегка только приподняв брови, — было время, когда я тщетно старался спасти одну молодую женщину дурного поведения. Так вот, я прошу этого джентльмена, если он сможет, сообщить этой молодой женщине, то я прощаю ей ее дурное обхождение со мной и призываю ее к раскаянию.
— Я не сомневаюсь, Номер Двадцать Восемь, что джентльмен, к которому вы обращаетесь, очень живо воспринял, подобно всем нам, то, что вы так хорошо сказали. Больше мы не задерживаем вас.
— Благодарю вас, сэр, — промолвил мистер Литтимер. — Джентльмены! Я желаю вам здоровья и надеюсь, что вы и ваши семьи также осознаете свои прегрешения и исправитесь!
С этими словами Помер Двадцать Восемь ушел, обменявшись с Уриа Гиппом взглядом, говорившим о том, что они достаточно знают друг друга и как-то общаются между собой. Когда дверь его камеры за ним закрылась, послышался общий шопот, что он почтеннейший человек и его исправление — великолепный случай.
— Ну, теперь еще поговорим с вами, — обратился к «своему» Номеру Двадцать Семь мистер Крикль. — Нет ли у вас желания, которое мы могли бы выполнить? Скажите прямо!
— Я смиренно просил бы, сэр, разрешения снова написать матери.
— Конечно, оно будет дано вам! — ответил мистер Крикль.
— Благодарю вас, сэр! Я в тревоге относительно матери: боюсь, она в опасности.
Кто-то опрометчиво спросил, что ей грозит, но сейчас же раздалось «тсс…», полное возмущения.
— Ей грозит опасность в будущей вечной жизни, сэр, — ответил, корчась, Уриа. — Мне хотелось бы, чтобы мать моя переживала такое же душевное состояние, как я: хотелось бы, чтобы она была здесь. Да и для каждого было бы лучше, если бы его взяли и посадили сюда.
Эти слова вызвали безграничное удовольствие, мне кажется, наибольшее из полученных до сих пор.
— Прежде чем попасть сюда, — начал Уриа, бросая украдкой на нас взгляд, говоривший о том, что он охотно уничтожил бы, если бы мог, тот внешний мир, к какому мы принадлежали, — я предавался безрассудствам. Теперь я осознал их. Вне этих стен много грехов. Много их и у моей матери. Грех господствует повсюду, за исключением этого места.
— Вы, значит, совершенно изменились? — спросил мистер Крикль.
— О боже мой! Конечно, изменился, сэр!
— И, выйдя отсюда, вы не стали бы снова грешить? — поинтересовался кто-то из присутствующих.
— О боже мой! Конечно, не стал бы грешить, сэр!
— Ну, это чрезвычайно утешительно, — заявил мистер Крикль. — Вы, Номер Двадцать Семь, я видел, обращались к мистеру Копперфильду. Не желаете ли вы еще что-нибудь сказать ему?
— Вы знали меня, мистер Копперфильд, задолго до того, как я попал сюда и изменился, — сказал мне Уриа (при этом он посмотрел на меня таким омерзительным взглядом, какого я никогда даже у него не видел), — знали, когда, несмотря на свои заблуждения, я был смиренным среди гордых и кротким среди жестоких. Вы сами, мистер Копперфильд, были жестоки ко мне; однажды, помните, ударили меня по лицу?
Общее соболезнование. Несколько негодующих взглядов в мою сторону.
— Но я прощаю вам, мистер Копперфильд, всем прощаю. Мне ли питать к кому-либо злобу? Добровольно прощаю вам и надеюсь, что вы обуздаете в будущем свои страсти. Надеюсь также, что мистер У., и мисс У., и вся эта грешная компания раскается. Вас посетило горе, и я надеюсь, что это послужит вам на благо. Но было бы полезнее, если бы вы попали сюда, а также и мистер У. и мисс У. Лучшее мое пожелание вам, мистер Копперфильд, и всем вам, джентльмены, это — чтобы вы очутились в этих стенах. Когда я думаю о своих прошлых заблуждениях и своем теперешнем состоянии, я уверен, что это было бы самым лучшим для вас. Горячо сожалею о всех, кого не доставили сюда.
Тут он проскользнул в свою камеру под возгласы всеобщего одобрения, а мы с Трэдльсом, когда его заперли, признаться, почувствовали большое облегчение.
Характерно для обоих покаяний было то, что мне захотелось узнать, что вообще могли натворить эти двое людей, для того чтобы попасть сюда. Но присутствующие отказались наотрез ответить на мой вопрос. Тогда я обратился к одному из двух тюремщиков, по выражению лиц мне показалось, что они прекрасно знают цену всей этой комедии.
— Известно ли вам, — заговорил я, когда мы шли по коридору, — каково было последнее «безрассудство» Номера Двадцать Семь?
— Случай в банке, — сказал он.
— Должно быть, какое-нибудь мошенничество в государственном банке? — спросил я.
— Да, сэр, мошенничество, подлог и злоумышление. Он вовлек в это и других. Дело шло о большой сумме денег. Приговор — пожизненная каторга. Будучи самым хитрым и ловким из этой шайки, он почти было вышел сухим из воды, но банку удалось-таки насыпать ему соли на хвост, и поделом.
— А знаете вы, какое преступление совершил Номер Двадцать Восемь? — еще поинтересовался я.
— Номер Двадцать Восемь, — начал мой осведомитель, как раньше, вполголоса и оглядываясь кругом, очевидно опасаясь, чтобы Крикль и его приспешники не услышали, что он сообщает противозаконные сведения о двух «безупречных», — так вот, этот Номер Двадцать Восемь (ему тоже каторга) поступил в услужение к какому-то молодому джентльмену, и в ночь накануне их отъезда за границу он похитил у своего хозяина денег и ценностей на двести пятьдесят фунтов стерлингов. Мне особенно запомнился этот случай, потому что этот самый Номер Двадцать Восемь был пойман карлицей.
— Кем?
— Крошечной женщиной. Я забыл ее имя.
— Не Маучер ли?
— Вот-вот! Он успел ускользнуть от преследований и пробирался уже в Америку в белокуром парике и в таких же накладных бакенбардах, так ловко замаскированный, как вы, наверно, во всю жизнь не видывали, но крошечная женщина, заметив его разгуливающим по улице Саутгемптона, умудрилась-таки моментально разглядеть его своими острыми глазенками. Она бросилась ему под ноги, чтобы свалить его, и вцепилась в него, как безжалостная смерть.
— Чудесная мисс Маучер! — вырвалось у меня.
— Да, это действительно можно было сказать, если бы вы, как я, видели ее стоящей на стуле в ложе свидетелей, — вставил мой друг.
— Когда крошка схватила его, — продолжал тюремщик, — он рассек ей все лицо и избил ее самым жестоким образом, но она не выпустила его до тех пор, пока его не засадили в тюрьму. Эта маленькая женщина так вцепилась в него, что полицейские чиновники были принуждены взять их вместе. Потом на суде она давала показания так смело, что заслужила высшую похвалу судей, а публика сделала ей овацию и проводила до самого ее дома. На суде крошка заявила, что, зная все деяния этого субъекта, она захватила бы его голыми руками, будь он самим Самсоном[37]. И я уверен, что она это и сделала бы, — добавил тюремшик.