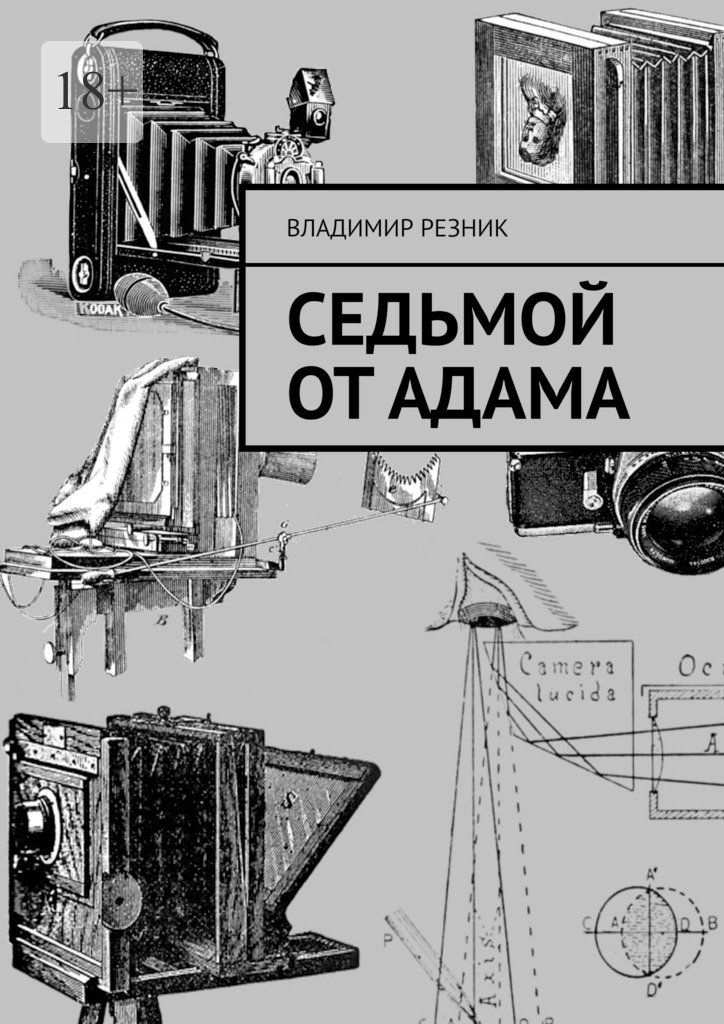Ни она не изменилась, ни пирожки — только цена: стоили они тогда пятачок. А вот в привокзальном буфете варили сосиски в целлофане и наливали за двенадцать копеек из блестящего хромированного цилиндра горячую светло-коричневую жидкость, называвшуюся «кофе с молоком» и удивительно подходившую по вкусу к сосискам.
У вокзала же он купил цветы и добрался до кладбища часам к четырём, когда красноватое мартовское солнце уже готовилось плавно скатиться к горизонту. После недолгого блуждания по изрядно изменившемуся кладбищу он нашёл могилы родителей — те действительно были расчищены от прошлогодних листьев и остатков грязноватого снега — и порадовался, что не зря посылает ежегодно переводы их бывшей соседке. Положил, разделив пополам букет, цветы на обе плиты. Потом вспомнил кладбищенские правила и оборвал стебли покороче — прямо под сами бутоны, чтобы цветы нельзя было собрать с могил и продать ещё раз. Посидел на врытой у оградки скамейке, покурил. Достал купленную по дороге чекушку водки, сорвал крышку зубами — промёрзшие пальцы не слушались, — помянул, выпил половину и заткнул бутылку заранее заготовленной пробкой, свёрнутой из тетрадного листа — из Изиной записки. Водка сначала не хотела ложиться без закуски на вчерашнее, поклокотала внутри, подёргалась вверх-вниз, но наконец утихомирилась, и печальное тепло растеклось по телу. Он уже начал задрёмывать на узкой скамеечке, погрузившись в полусон-полувоспоминания, когда отвлекли его, вытащили из этого блаженного состояния шум машин и голоса множества людей. У кладбищенской сторожки, там, где и находился Изин схорон, и мимо которой он сегодня прошёл, стараясь не повернуть головы, стояли два милицейских уазика, машина скорой помощи и толпилось с десяток человек. Михаил Александрович, не торопясь, изображая безучастность, подошёл ближе. Темнело, и группа людей на кладбище, освещённая лишь фарами машин, выглядела зловещей стаей чёрных воронов, обсевших низенькую сторожку. Входить внутрь и спрашивать что-либо у милиции или врачей он даже не пытался. Понятно было, что ответа не получит, а вот ненужного внимания и лишних расспросов точно не избежит. Да и показалось ему, что мелькнули среди мундиров и фуражек серенький костюмчик и белёсый затылок следователя Наливайло. Но на любом кладбище всегда найдутся старушки — всегда, в любое время суток. Не привязанные уже ни к чему на этом свете, потерявшие всех и вся, живут они только там, ухаживая за близкими могилами, общаясь с ушедшими родственниками и готовясь к незаметному переходу из этого состояния в мир иной — к воссоединению с теми, кто оставил их тут мучиться и доживать. Так вот к ним — теснящимся в сторонке, мудрым и всё знающим — Мазин и обратился.
— Так тело там нашли, гражданин, — сообщили они, перебивая друг друга. — Изи Якобсона тело. Слыхали, может, про такого.
— Тот самый это Изя, который уж месяц тому как пропал. А батюшка наш сказал, что совсем свежий он и духу никакого нет покойницкого, — шёпотом добавила одна из старушек и мелко закрестилась. — Ну совсем как живой. А ещё, говорят, привидения разные вокруг сторожки по ночам ходють и звуки всякие жуткие раздаются.
— Да не живой — мёртвый он совсем. Ох, страсти-то какие напридумывали курицы недоенные… И вот ещё что: рядом с телом обрывки какие-то и горстка пепла — фотографии какие-то полусгоревшие. Но кто на них и что — это неведомо. Может, только эта, експертиза покажет, — окончательно разъяснила ему ситуацию суровая интеллигентная старуха в перекроенном из мужского драповом пальто.
Притихший Мазин побрёл к гостинице. Не нужны ему были результаты милицейской экспертизы, чтобы понять, что именно произошло. Партизан Изя поставил последний в своей жизни эксперимент, на этот раз — на себе.
Гном Фёдор, двоюродный племянник Изи, в той же кепке и в настоящем, только очень маленьком ватнике поджидал Мазина сбоку от входа в гостиницу, укрывшись в тени разросшейся ели. Глаза у мальчишки были красные, но он старался держаться и только шмыгал время от времени мокрым носом. Выходить на свет, а тем более идти в гостиничный номер он категорически отказался и, держась по-прежнему в тени дерева, рассказал и передал Мазину все, что было поручено. Видно было, что Изя тренировал племянника по-своему, по-партизански… и не напрасно. Потому что, после того как Михаил Александрович скрылся за дверью гостиницы, из-за угла выскочил рыжий Максим и бросился искать так и не увиденного им мазинского собеседника — а того и след давно простыл.
Уезжал Михаил Александрович из родного города с тем же багажом — портфелем и маленьким фибровым чемоданчиком — и тем же маршрутом, каким в него и прибыл, — дневным поездом до Здолбунова. А там пересадка на ленинградский скорый, на верхнюю полку, и спать, спать, просыпаясь только на еду и перекуры, — и ни капли спиртного! Не всё из этого получилось: выпить с соседями по купе пришлось, и ещё как! Уж больно настойчивы и хлебосольны оказались два командированных молдаванина и студент-заочник из Одессы, ехавший на весеннюю сессию. Настолько хлебосольны, что ему удалось если не забыть, то, по крайней мере, пригасить неконтролируемый страх, навалившийся на него, когда, подойдя к поезду, в жиденькой толпе на перроне увидел он у одного конца своего вагона рыжего иностранца Максима, а у другого — бледного упыря, следователя Наливайло. Оба молча, внимательно и не делая никаких попыток приблизиться, наблюдали за ним: за его багажом, за тем, как он сел в вагон, проследили, чтобы не выскочил через другой тамбур, и, дождавшись отхода поезда, проводили окно его купе мертвенными, ничего не выражающими взглядами.
Мысль провести несколько экспериментов со своей камерой — со своим так странно и случайно доставшимся ему «Енохом» — возникла у Михаила Александровича в поезде, когда услышал он сквозь некрепкий дневной сон на своей верхней полке, как спорили внизу молдаване, оказавшиеся то ли научными работниками, то ли подпольными цеховиками.
— Какие ещё эксперименты! — грозным шёпотом наседал один из них на другого, помоложе. — Ты свои эксперименты на белых мышах ставь, а не в моём цеху! Ты без меня в космос слетай. А если твоё рацпредложение сработает и вернёшься живой — вот тогда и приходи со своими идеями! Ты знаешь, что будет, если я клиентам партию товара не выдам вовремя, как обещал? Это тебе не в министерстве взятки совать — там в худшем случае уволят, а эти — голову отрежут. Не надо мне твоих экспериментов!
Мазин не услышал, как оправдывался молодой, но «эксперимент» и «белые мыши» засели в его памяти, и, вернувшись домой, первым делом, после того как убедился, что в квартире всё на своих местах, и принял душ, он стал прикидывать, каким образом устроить проверку и без особого риска выяснить смертоносность своего «Еноха».
Не нужна ему была такая известность, ох не нужна! Да что поделаешь, если слухи рождаются из грязи, как мыши, и распространяются от малейшего дуновения ветра, как пожар. То ли кто-то из окружения князя что-то проведал и разболтал, то ли сам князь оказался несдержан на язык, но слухи о чудных свойствах фотоаппаратов Еноха расползлись по округе. С одной стороны, это добавляло ему клиентов. С другой — клиенты эти часто оказывались совсем не того типа, с которым хотелось бы иметь дело.
Такие заказчики почему-то предпочитали приходить под вечер, ближе к закрытию. Вот и этот — высокий, худой, со впалыми щеками и длинными чёрными усами — вынырнул из темноты (фонарщик ещё не успел добраться до их улочки), когда Енох уже собрался закрывать мастерскую.
— Я наслышан о чудесных свойствах ваших камер, герр Енох, и хотел бы заказать у вас аппарат для себя. — Енох вздрогнул, услышав трансильванский акцент гостя. Ему приходилось бывать в тех краях, и от того путешествия у него остались не самые лучшие воспоминания.
— Я думаю, что слухи, дошедшие до вас, уважаемый… — тут он сделал паузу, поскольку гость не представился.
— Граф Дэнуц, — наклонил голову гость.
— Моё почтение, граф. Так вот о слухах — думаю, что они сильно преувеличены. Да, моими камерами можно делать прекрасные фотографии, и мне есть чем гордиться. Что же касается…
— Оставьте, Енох. Я в курсе всего и знаком с несколькими вашими покупателями. Я понимаю, что цена за такую камеру много выше, чем за обычную, и не пожалею денег.