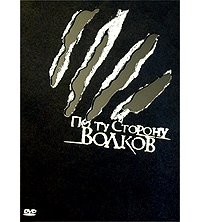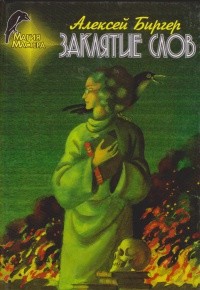- Я ждал вас, ждал и решил навестить, - сказал он. - Уже давным-давно рассвело, я думал, мы еще часа два назад на месте будем. Что с вами? Почему вы застряли? Так народ и все следы перетопчет. Слух уже пошел, что новый участковый оборотня ранил. Многие уже смотреть пошли, а скоро набежит еще больше. Так и все хорошие образцы погубят. Да и погода на тепло пошла, кровь может уйти вместе со снегом.
Показалось мне, или он в самом деле как-то странно приглядывался по сторонам - жадной такой украдочкой?
- Я наверх доложил, и мне велено уполномоченного НКВД ждать, - объяснил я. - Вместе с ним отправимся. Хотите - в больницу возвращайтесь, хотите - вместе со мной энкеведешника дождитесь. А я вас чайком попотчую. Сладким.
Он присел, а я опять вытащил свой вещмешок - все мое имущество, с которым я прибыл, и были в нем остатки от моего запасца сахара и чая да кой-какие никчемные вещички - и извлек все необходимое, и чай сготовил, и сели мы с врачом покалякать в ожидании уполномоченного.
- Все документы по оборотню штудируете? - спросил врач, кивнув на бумаги на моем столе.
- Штудирую, - меня позабавило употребленное им слово, и я решил взять его на вооружение, чтоб самому порой использовать. - И, знаете, забавная картинка получается.
- Какая? - полюбопытствовал он.
- А такая, что этот оборотень - единственный здесь, благодаря кому хоть какой-то порядок держится. Только страх перед ним и отпугивает местную нечистую братию от того, чтобы все склады разграбить да ночи напролет другие непотребства творить. Без него здесь никто не справится. И я не справлюсь. Вот он я - одна голова, две руки на весь огромный район. Вот я и думаю, - усмехнулся я. - А какого хрена мне за этим оборотнем гоняться? Он же, выходит, мой первый помощник. Не лучше ли оставить его в покое? Ну, загрызет он иногда кого-нибудь, зато хоть по ночам буду спать спокойно - и жертв меньше будет, чем без него.
Врач ошеломленно меня слушал.
- Вы это серьезно? - спросил он после паузы.
- Серьезно - не серьезно, а суть проблемы улавливаете?
- Суть проблемы в том, что у вас мигом руки опустились, как вы нынешнюю здешнюю жизнь увидели? - спросил он.
- Руки у меня никогда не опускаются, - заверил я. - Я говорю, так сказать, с точки зрения целесообразности.
- Пусть волк по ночам воет, людей пугает? Им же безопасней: по домам, взаперти, в целости и сохранности?
- Вот-вот. С волками жить - по-волчьи выть.
- А если люди не хотят выть по-волчьи?
- Да у них вой в душе стоит хуже волчьего. Неужели не слышите? Отними! Ограбь! Прикармань! Зарежь! Изгадь! Изуродуй! А вы мне о волках... Вы на волков не смотрите, вы дальше взгляните, по ту сторону волков...
- По ту сторону волков?
- Да, чтобы видеть, что за каждым волком есть человек. Есть такая гадина, которой мы должны интересоваться. А с волками пусть егеря разбираются.
- Не то вы что-то говорите, - кисло возразил врач.
- Вам так кажется, потому что вы в смысл слов моих не вникаете. Думайте, думайте. Не волчий вой, а то, что спрятано за волчьим воем, - вот где наша загвоздка. И вот где наш ответ.
- Вы не верите, что воет всамделишный волк? Вы полагаете, кто-то подражает волчьему вою?
- А разве это так трудно? Сами попробуйте.
Врач пожал плечами, запрокинул голову - совсем как в моем сне - и завыл точно так же, как во сне, тонко и жалобно, похоже на юродивого, находящегося на его попечении.
- Недурно получается, - одобрил я. - Вам бы еще чуток практики, и вас от волка не отличить. А наш оборотень, наверное, еще и тренируется...
- Если тренируется, то где? - спросил врач.
Я взглянул на него недопонимающе.
- Ведь во время репетиций его воя не должно быть слышно, - пояснил он. - Иначе бы его сразу раскусили.
- Не слышно и не видно... - протянул я; хотел еще кое-что добавить, но тут под окнами конский топот послышался.
- Совсем стыд потеряли - посреди бела дня на ворованных лошадях разъезжают, - обронил врач.
- А кого им бояться... - начал я, но тут знакомый мой конокрад ворвался в помещение весь запыхавшийся.
- Поймали, начальник! - торжественно заорал он. - По вашей примете поймали, по боку его, пулей задетому! Народ его сейчас кончать собирается!
Мы с врачом так и подскочили.
- Не сметь самосуда! - воскликнул я. - Остановить их надо. Где убивают? Кого?
- В Митрохине, Колю инвалида, - объяснил конокрад, явно несколько разочарованный моей реакцией. - А ведь как маскировался, гад! Несчастненький такой, по нему и не подумаешь! Его уже повязали, теперь осиновый кол вытесывают.
- Ну и дикость!.. - вырвалось у врача, но я жестом остановил его, прежде чем он успел что-то еще сказать.
- Вот что, - обратился я к конокраду, - скачи назад и останови их. Вы что, не понимаете, что мне он живьем нужен? Скажи - если прикончат его до моего прибытия, я шкуру со всех живьем сдеру. Лети во всю прыть, а мы с врачом немедля выходим в Митрохино.
Парень нехотя и разочарованно вышел на улицу, и мы услышали удаляющийся топот копыт.
- На то смахивает, что вы их за один день к рукам прибрали, - удивленно заметил врач. - Никакой вам оборотень в помощники не нужен.
- Пойдем, - проговорил я, быстро накидывая шинель. - По пути договорим... Уполномоченный НКВД приедет, скажи ему, что по срочному делу пришлось отбыть в Митрохино и что дело серьезное, - распорядился я дежурному, и мы с врачом отбыли в путь.
- Так вот, насчет того, что я их к рукам прибрал, - заговорил я, пока мы шли к железнодорожному переезду. - Так вот... Мысль мне в голову пришла, понимаете? Заблудившиеся ребята. Что они видели, кроме голода, холода и озверелости? Толком и не учились, небось. Сбились в стаю - такую, что волчьей стае сто очков вперед даст, тоже по ту сторону волков оказались, если хотите. И все равно - неизвестно, куда руки приложить.
- Трудодни-то отрабатывают, - сказал врач.
- Наверно, и отрабатывают. Но тоже, знаете... От этих галочек много проку не видели. И усвоили черти, что хоть от зари до зари работай, хоть спустя рукава - из нищеты не выбьешься, но и с голоду совсем пропасть не дадут. Тусклая, в общем, жизнь, без изюминки, без света в окошке. А тут - красавиц-лошадей привезли. И вот видят они этих лошадей, и глазенки у них загораются, и тут они выясняют, что лошади практически без охраны и что угнать их ничего не стоит. Так для них это - прик-лю-че-ние, такое же осуществление мечты, как для нас с вами, к примеру, оказаться вдруг наяву на одной шхуне с детьми капитана Гранта.
- Романтика, хотите сказать?
- Да, романтика. В том преломлении, какое нашла она в их темных, искореженных, остервенелых мозгах. Что они могут придумать, кроме того, чтоб на этих лошадях запугивать других, а порой и получать благодаря лошадям преимущество в драке? Да, «конный пешего всегда забьет». Иного им просто и не дано выдумать, иное - вне пределов их мира, вне пределов того, что они с молоком матери впитывали, чему на примере взрослых учились, видя суму да тюрьму... Но если отбросить темноту и искореженность, их романтика - точно такая же, как наша.
Врач взвесил это в уме.
- Понимаю... Но если продолжать эту линию, то и фабричные с ремесленными такие же романтики: то, что раньше было балами и дуэлями, у них стало танцульками и драками-поножовщинами, но суть, если копнуть поглубже, одна и та же? Так?
- Так. Ведь все эти балы и дуэли лишь издали красивыми кажутся. Что дуэль, что свалка с ножами, напильниками или отвертками - один хрен. Смертоубийство поганое. Вон, со школы помню, что Пушкин в живот был ранен. Вы – врач, я – фронтовик, мы оба представляем, что такое ранение в живот. Худшую мерзость трудно представить, верно?
- Верно, - кивнул врач. – Трудные и мерзкие ранения. Кишки развороченные, и вообще... Кал и смрад. И умирает человек мучительно, если рана смертельная.
- Вот, вот. А мы твердим: «Невольник чести!» И ладно бы какой благородной... Но невольниками стадной чести я им быть не позволю. Насколько от меня зависит... Ну, так вот, в какой-то момент, когда я уже думал, как их получше и побыстрее свалить с плеч и сплавить на лесоповалы, вдруг увидел я в них просто порченых пацанов с разгоревшимися глазенками. И стал я, видно, невольно разговаривать с ними, как с пацанами, простые «нельзя» объяснять и даже, что ли, цацкаться с ними. То есть со всей суровостью и без поблажек, конечно, но, знаете, с этакими особенными интонациями... Вот они, видно, и прониклись. И приняли мое правило: что по серьезному делу я спуску никому не дам.