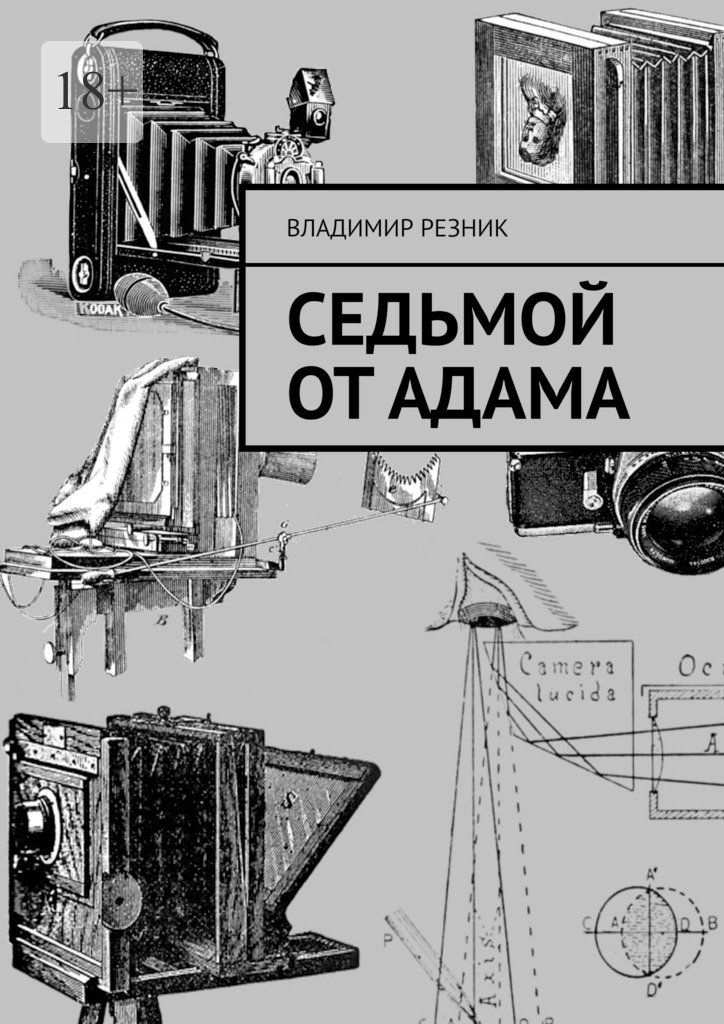преследований, унижений и поборов. По лёгкому акценту местные жители определяли в пришельце выходца с Пиренеев, по смуглой внешности — сефарда, а по разговорам — чуть ли не последователя Шабтая Цви. Он был ещё совсем молодым человеком, этот Енох, лет двадцати с небольшим, — кто там разберёт истинный возраст этих беспаспортных с их запутанным и непонятным истинному христианину календарём, по которому сейчас аж 5585-й от сотворения мира, как будто кто-то из них при этом присутствовал.
Все местные шадхан (свахи), почуяв заработок, кинулись подбирать ему невест, но так и остались ни с чем. Очень вежливо, стараясь не поссориться ни с кем, он отшил всех и остался жить один в двух небольших комнатках над мастерской по изготовлению и ремонту часов, которую открыл на тихой улице у границы бывшего гетто. Сначала он занимался всем: ремонтировал любые часы, музыкальные шкатулки, шарманки и фисгармонии, но постепенно круг его интересов сузился, и брал он в ремонт что-либо только у старых клиентов, ставших уже приятелями, а занимался в основном изготовлением напольных и настенных часов, в чём изрядно преуспел. Его часы с несложными механизмами, но всегда в нарядных деревянных корпусах, с никогда не повторяющимися украшениями и резными деталями, были популярны не только у горожан — за ними приезжали и из других княжеств и даже из самого Берлина. Он изначально, нутром понял, что его выигрышная сторона в отделке, деталях и индивидуальности. Он всегда мог уверенно и честно сказать покупателю: «Вторых таких нет!» И это был правильный, как сейчас бы сказали, «маркетинговый ход» — от покупателей не было отбоя.
Он всё же был евреем: соблюдал Субботу, по праздникам ходил в синагогу, давал на неё деньги (немного), но при этом носил обычное, не выделяющее его платье, разные шляпы, а так как он никогда не снимал их на людях, то никто так и не узнал, есть ли под ними кипа. Так шло до 1839 года, когда докатилась и в тихий Регенсбург весть об изобретении Дагера. Сама идея изображения живого существа на чём бы то ни было противоречила заповедям, и когда восторженный Енох, выписав из Парижа первые пластинки для дагерротипа и первую камеру, попытался увлечь этим соплеменников, то встретил резкий отказ, глухое сопротивление, а затем и приглашение на встречу с раввином. Там ему были ещё раз прочтены нужные главы из Торы и даны их подробные толкования с использованием цитат из известных гаонов и ссылками на Шулхан Арух. Дело могло дойти и до отлучения, но после визита к раввину посланца от князя Турн-унд-Таксиса (богатейшего местного землевладельца и самого влиятельного человека в городе) скандал на удивление быстро заглох. Ребе задумчиво разъяснил недоумевающим прихожанам, что, мол, сами-то изображения Енох не делает, а то, что ящики изготавливает, — то нельзя же судить кузнеца за то, что его ножами одни режут кошерное мясо, а другие свинину. К этому времени, возможно, и относится начало увлечения Еноха каббалой, а запретными алхимией и астрологией, как потом выяснилось, он интересовался давным-давно. Как бы то ни было, но «Часовая мастерская Еноха Зальцмана» постепенно превратилась в «Дагеротипные аппараты Еноха», а после в «Фотоаппараты Еноха», да так и просуществовала до его загадочного исчезновения в 1843 году.
Молоточка на двери в лавку не было, и человек в длинном плаще с капюшоном просто пнул её два раза сапогом. На носках его высоких ботфортов с отворотами были металлические наконечники, да и ударил он от души, так что звук разнёсся по всей засыпающей улице и уж точно расшевелил хозяина дома. Было видно, как метнулся за мутными окнами отсвет от пламени свечи, слышно, как хлопнула внутренняя дверь, и наконец тихо взвизгнул несмазанный засов на входной.
— Господин князь. Зачем же так шуметь? Заходите. Вот сюда, не споткнитесь, здесь порог.
— Поставьте себе новомодный электрический звонок, Енох! Или хотя бы обычный, с молотком. Как ещё, по-вашему, я должен дать вам знать, что стою у дверей? Мысленный сигнал послать, как вы советовали? Так я уже пять раз и его послал, и вас послал, а всё равно продолжал мёрзнуть на улице.
— Я был увлечён опытом и не сразу вас услышал. Не горячитесь, князь. Я надеюсь, вы не приехали ко мне на вашей карете с гербами?
— Послушайте, Енох. Мне кажется, что, пользуясь моим расположением и интересом к фотографии, вы просто наглеете. Не забывайте, кто вы и кто я!
— Прошу прощения, господин князь. Я действительно экспериментировал по вашему заданию с новыми образцами дерева и не расслышал ваш сигнал.
— И что? Как успехи?
— Пока всё идёт, как я и предполагал. Я в очередной раз убедился, что я могу сделать хорошую камеру, уникальную камеру из любого куска дерева, что вы предоставите. Но, к сожалению, я так и не нашёл пока способа предсказать, какими свойствами, кроме обычного и, конечно, очень качественного изображения, она будет обладать. Я проверил всё и по картам Таро, и по книге Зоар, но пока не нашёл ничего, чем можно было бы объяснить, а самое важное, заранее предсказать, что будет происходить с теми, кто будет снят этим аппаратом.
Они прошли во вторую комнату. Енох плотно прикрыл дверь, зажёг ещё несколько свечей и подбросил дров в камин. Мастерская, она же лаборатория, была тесно заставлена всевозможными станками, станочками и приспособлениями. Тут стояли станки для работы по дереву и металлу, маленький печатный пресс и приспособление для шлифовки линз. В одном углу находился потухший кузнечный горн с вытяжкой, уходившей в стену, в противоположном — шкаф с химической посудой и верстак, на котором были аккуратно разложены инструменты. Между верстаком и стеной втиснуто небольшое бюро, заваленное книгами и листами бумаги с чертежами и расчётами. В центре комнаты на треноге стоял большой деревянный ящик с объективом. Гость, высокий мужчина средних лет с вьющимися рыжими волосами и властными манерами, достал из-под плаща свёрток.
— Вот. Это те доски, о которых я говорил. Я хочу, чтобы вы сделали из них одну стенку, а если их не хватит, то часть стенки. Короче, чтобы вы встроили их в аппарат.
Енох с поклоном взял свёрток, развернул. В нём оказались два куска посеревшей от времени и непогоды некрашеной доски.
— Князь Максимилиан, я сделаю то, что вы хотите, но ещё раз предупреждаю: я не знаю, какими именно свойствами будет обладать эта камера.
— У вас же получилось с предыдущей. Та камера излечила и мою дочь, и ещё двоих. Их болезни перешли на дагеротипы, изображения почернели и исчезли, а люди вылечились.
— Да, тогда получилось. Это была четвёртая камера, четвёртая буква алфавита: «Далет» — торжество жизни. Тогда всё получилось прекрасно, слава Всевышнему. Но тогда всё сошлось, совпало, все знаки: и Венера, и четвёртый аркан, и, главное, я знал, что я делаю и с чем имею дело. И дерево, дерево было правильным! Эти два куска целебного дерева ним, его ещё называют маргозой, привёз мне знакомый купец из Индии, а панель из рожкового дерева из Палестины я купил у наследников одного рыцаря, участвовавшего в крестовом походе. Это дерево упоминается даже в Каббале, в книге Зоар. Оно нам недёшево досталось. Эта камера стоила целое состояние. Но она того стоила. А что это за доски?
— Это два куска от доски с помоста, на котором стояла парижская гильотина. Та самая — на площади Согласия. На ней были казнены и Людовик, и Дантон, и Робеспьер. Эти сувениры стоили мне немалых денег.
Енох отшатнулся, отбросил доски на верстак.
— Князь… Это опасно. Мы даже представить не можем, что из этого получится! Какие жуткие силы мы можем разбудить. Я не буду из них ничего делать.
— Не забывайтесь, Енох. Я спасал вас уже от и обвинений в колдовстве, и от отлучения от вашей синагоги, и от погрома, и от долговой тюрьмы. Вы многим обязаны мне, Енох. И мне может надоесть спасать еврея-чернокнижника. Сейчас не лучшие времена для этого. Вы знаете, какие антиеврейские настроения сейчас в Германии, и как относится церковь ко всяким алхимикам и колдунам.
— Да, князь Максимилиан. Я всё помню. Я вам обязан. Я просто хотел вас предостеречь. Это действительно очень опасно. Но раз вы так настаиваете — я