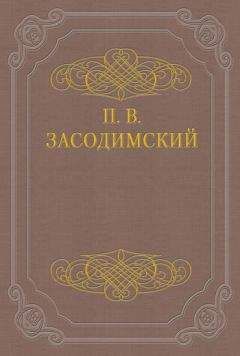Степка к тому времени, отведав сладость свободы, сделался значительно посмелее и развязнее. Он стал уже подманивать брата идти за репой или за яблоками и отваживался на то, о чем прежде и подумать-то боялся.
Бывало, темным августовским вечерком крадутся братья, как тени, вдоль плетней и заборов и, буквально обремененные добычей, возвращаются в свой шалаш. И весело им. Но Алешка все еще оставался недоволен своею участью и на достигнутую им «обетованную землю» посматривал, надув губы, все презрительнее и презрительнее; но, несмотря на темное недовольство и разочарование в «земле обетованной», Алешка все-таки, разумеется, по своей воле никогда бы не пошел изо ржи к куму – сапожнику. Здесь ни аршин, ни розга не угрожает братьям; их не душат, не давят подвальные своды; никакой власти, никакой удержи, – простор необъятный и воля, воля…
Смелее прежнего заблистали глаза Алешки, еще более, казалось, окрепли его мускулистые, сильные руки и здоровая грудь.
– Эко житье-то, Степа! – говаривал он брату в часы примирения с невыгоревшею волей. – А ты было на попятный хотел… Эх ты! Глядь-кось… царские палаты…
Степа лежал и с удовольствием прислушивался, как над рожью слегка ветерок проносился, наклоняя колосья, как птичка песню запевала где-то далеко, далеко.
– Зима-то ужо подойдет; земля-то подстынет, снегу навалит сугробищи, – куда мы тогда денемся? – рассуждал Степка, нежась на солнышке, и мысленно строил кислую гримасу при воспоминании о дяде Сидоре.
Степке представилась вдруг живо и ясно зима холодная, вьюги и метели, которые забушуют над снежными сугробами, над теми самыми местами, где они теперь так привольно-роскошно, так, по мнению Алешки, по-царски живут, под теплым летним небом, под защитой желтых молчаливых колосьев.
– До зимы-то еще далеко… погуляем! А там в работники наймемся, – вот те и весь сказ! – решил Алешка.
Таким образом, подобно кротам, братья весь день до сумерек скрывались в своем логовище, но лишь только над селом Неурядным сгущалась темнота, братья выходили за добычей и гуляли; бледный месяц светил им с высоты, а тень деревьев и кустов скрывала их; росистая трава не выдавала их преступных следов. Но такая кротовья жизнь стала сильно наскучать Алешке, не любившему ползать и ежиться, когда можно было бы ходить прямо, не сгибаясь. Притом и серые туманы вставали над полями все холоднее и угрюмее. Утренники бросали в дрожь бродяг; дожди и ветры разрушали их соломенный дворец, а мутное, плаксивое небо наводило уныние. Рожь бабы дожинали, – и шалаш поневоле приходилось оставить. Думали было братья на время поселиться в старой бане, но не решились: ведь в бане-то «дедушка» живет. Дедушка не любит шутить, как раз придушит…
– Нужно, брат, денег добыть да идти подальше! – сказал брату Алешка в одно прохладное утро, постукивая зубами и ежась от холода в своей плохонькой одежонке. – В работники пойдем… не пропадем!
И, вероятно, хороший работник-батрак вышел бы из Алешки. Алешка ведь не любил только сапожника, за то ремесло проклятое, за которое били его нещадно, немилосердно; от дела Алешка не бегал, он был не прочь и косить, и пахать, и жать, и молотить. Не давайте только ему, христа ради, шила, дратвы, кожи вонючей, не заставляйте сидеть его круглый год в грязных четырех стенах да не бейте его колодкой по голове.
– Не пропадем, брат, ей-богу! – с уверенностью повторил Алешка.
Степка же молча задумчиво рвал сухую, желтую траву, рвал и отбрасывал прочь. Степке, обленившемуся в лавке дяди, пришлось не по вкусу предложение брата. Брат звал его лежебоком – и по заслугам. Похмурился, похмурился Степка и все-таки согласился идти лучше в работники, чем возвратиться в лавку к дяде. Но таковое решение было им принято не потому, чтобы он предпочитал вольную трудовую жизнь жизни лавочнической, подаршинной: нет! Просто влияние сильнейшего и на этот раз взяло верх над его нерешительностью.
«Нужно денег добыть для того, чтобы уйти куда-нибудь подальше», – говорил Алешка. Следовательно, надо было что-нибудь украсть и украденное обратить в деньги. Сказано – сделано. Под навесом сарая отыскали они однажды ночью соху, сняли сошник и утащили. На другой же день ввечеру братья были пойманы на гумне, за ворохом соломы, при них же нашелся и злополучный сошник… Те же звезды, что и в первую ночь их бегства из города, теперь смотрели на них; но не с прежним чувством взглядывали на них теперь пойманные бродяги. Холодный, сырой ветер свистел вокруг риги и по полю, над пожелтевшим лугом; уныло шумел он над сухими ветлами и унылую песню напевал он теперь братьям. Распрощались братья с золотою волею.
Со слезами на глазах смотрела баушка в разбитое оконце, как увозили их в город; сухо, злобно смотрела старуха на собравшихся мужиков и на горластого старшину. Скрипя и трясясь, покатилась телега по грязной дорожке за околицу и скоро скрылась в кустах. Но не скоро успокоилась старая баушка. Хмурилась старуха; смурилось серое небо, заглядывавшее в ее тусклое оконце, заклеенное бумагой, позатыканное тряпицами…
В жилище Никиты Долгого, в жилище бедности и труда, весь день с сероватого рассвета до темной ночи пила визжит, стучит топор да раздаются от поры до времени ругательства. Приходят и уходят сердитые, грязные люди, толкуют, спорят, кричат; иногда слышатся глухие удары, удары кулака по человеческому телу, потом прорывается резкий крик, детский плач и стоны. Но визжанье пилы, стук топора все покрывают, все заглушают. Не заглушить им только глухих, слезных жалоб и законного недовольства строптивых сердец.
Никита стругает брусья для рам. Андрюшка с сухой коркой сидит на полу у печки, а кошка, сидя перед ним, умильно взглядывает на корку, зажатую в кулаке Андрюши, – и мяучит. Андрюша отламывает кусочки хлеба и бросает их кошке…
Андрюша был очень добрый ребенок. Его сердце тепло отзывалось на горе и радость всякой бессловесной твари. Горько плакал он, когда мать прищемила кошке хвост в дверях; нежно прижимал он к груди бедную кошку, нежно гладил ее по спине. Только, бывало, прилягут старшие отдохнуть после обеда, Андрюша обшарит все столы, заглянет и к старухам-соседкам, достанет пригоршню хлебных крошек, какой-нибудь крупы и отправляется на двор кормить куриц, галок, ворон и воробьев. Сбивчивы были у него понятия о правах собственности, о разграничениях «моего» и «чужого».
– Ах ты, воришка негодный! – ругнула раз Андрюшу старуха, застав его на месте преступления и с поличным в руках. – Ах ты, срамник…
Андрюша в ту минуту подымался на цыпочки и выскребал из стола сухие крошки. Он нисколько не смутился, не обиделся и понял только то, что старухе жаль крошек…
– Дюша сходит и купит тебе в бувочной сухаей! – утешал он старуху.
Курицы зато знали его и стаями бегали за ним, лишь только показывался он на дворе. Слетались к нему вороны, воробьи и галки, – и Андрюша расхаживал между ними как хозяин.
Вечером, когда Никита оканчивал раму и намеревался зашабашить, так как день приходился субботний и по церквам раздавался благовест ко всенощной, – дверь растворилась, и в ней показался полицейский. Согнувшись в три погибели, вошел служивый в жилище столяра, вполоборота оглянул Никиту и пригласил его следовать за собой в часть для получения сыновей, находившихся в бегах. Катерина Степановна, всплеснувши руками, так и замерла от удивления.
Никита натянул кафтан и отправился в часть. Свидание отца с детьми после продолжительной разлуки было не из числа тех нежных свиданий, которые заставляют зрителей проливать слезы умиления. Дома началась обычная расправа. Никита принес большой пучок розог.
Степка с первых же ударов огласил Никитино жилище громкими криками: Степка молил о пощаде и сваливал всю вину на брата. Скоро Никита бросил его. Алешке зато досталось за двоих. Кстати подошел и дядя Сидор, услыхавший о поимке братьев-беглецов, и помог Никите расправиться с сыном. Алешку привязали к лавке и драли жестоко. Андрюша дрожал от страха и тихо плакал, забившись в угол за печку. Алешка же, стиснув зубы, лежал неподвижно под розгами и не подавал ни малейшего признака раскаяния… После экзекуции Алешка, как дикий зверь, бросился на дядю Сидора, вцепился ему в бороду и вырвал из нее порядочный клок волос. Дядя взревел от боли и ужаса. Алешку опять повалили и истязали ужаснейшим образом.
– Я тебе, дьяволу, красного петуха подпущу! – голосом, дрожащим от злости, прошипел взбешенный мальчуган, вперяя в дядю Сидора взгляд, полный самой ядовитой, непримиримой ненависти. – Мошенник ты этакий! Плут… Мучитель!..
– Ой, парень, парень, уймись! Угодишь ты… Ой, угодишь! – пророческим тоном заметил дядя Сидор, покачивая головой.
Вследствие возникших несогласий между Никитой и дядей Сидором, – Степка был отдан не в лавку, а в трактир под вывескою «Черного орла» в качестве мальчика. Остригли Степку в кружок, надели на него красную кумачную рубашку, нанковые полосатые штаны и научили его: как надо принимать, провожать и угощать почтенных посетителей «Черного орла», большая часть которых состояла из купчиков и купеческих приказчиков, благодаря выгодному местоположению «Орла», близости его от рынка. «Черный орел» пользовался и городе вполне заслуженною репутацией самого разухабистого, разгульного «трактира».