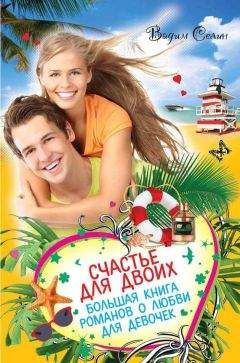Ознакомительная версия.
– Темур…
Полина запнулась.
– Нэ надо обманывать! Ведь он жэ тебя нэ связал? Нэ связал. Ведь он же тебя нэ избил? Нэ избил. Зачэм ты поехала с ним? Говори.
– Темур…
Бледное лицо Темура задергалось, как будто у него разом заболели коренные зубы.
– Полина! Я – всо! Нэ могу тебе вэрить!
Полина почувствовала, что от пережитого за день она сейчас упадет, – голова у нее кружилась, ноги подкашивались, – поэтому, обогнув своего разгневанного и недружелюбного жениха, она сделала шаг в сторону, чтобы пройти в свою комнату и лечь на диван под уютную сетку, но сильные, длинные пальцы Темура впились ей в запястье.
– Нэт, ты мнэ ответь! Ты ответь, я сказал!
Полина молчала. Но молчала она не потому, что ей нечего было сказать, а от внезапной усталости, которая, словно мороз в Заполярье, сковала ее и так мощно сковала, что даже разжать сейчас губы, шепнуть: «Я все объясню, не волнуйся, Темури», она не могла. И вдруг этот ласковый нежный Темури, которого даже сам Коган, скрипач, позвал к себе, чтобы Темури продолжил свое обучение в аспирантуре, и стал бы звездой, и затмил бы Менухина, – вдруг этот уступчивый добрый Темури схватил ее на руки и поволок в ту детскую комнату, где ночевал, поскольку стеснялся Ануки Вахтанговны.
В детской комнате, которая пестрела портретами знаменитых музыкантов, включая сухого и властного Вагнера в берете, с большим крепким носом и маленьким ртом, Темур бросил скромную нашу Полину – но не на кровать, а на пыльный ковер – и сам тоже бросился рядом, туда же, прижал ее к этой пыли и вскричал:
– Убью, говори! Проститутка московская!
Почти задохнувшись, Полина сказала:
– Темур, отпусти!
– Я тэбя нэ пущу!
– Но я все равно ведь уйду! Отпусти!
– А я пожениться хотел на тебе!
– Не надо нам было жениться, Темур.
– Теперь-то, конэчно, не надо жениться! А раньше я думал, что надо жениться!
И он разрыдался. Внезапно и так горячо разрыдался, что и у Полины прозрачные слезы залили всю кофточку.
Вечером Темур Джорджавадзе провожал бывшую свою невесту Полину Алферову в аэропорту. Оба они были грустны и растеряны. Перед уходом из квартиры Полина вынула из ушей бриллиантовые серьги и аккуратно положила их на стол.
Анука Вахтанговна так и осталась у нерасторопной портнихи, и больше Полина с ней в жизни ни разу не встретилась.
О, нет! Нет! Никто, никогда меня не уверит, что осень прекрасна. Вернее, я вот что хочу уточнить: конечно, бывает, что очень красиво. И листья, как золото, и водоемы такой синевы, что глаза даже режет, и вся эта легкая первая изморозь на золоте, и серебре, и багрянце… Но нет! Ибо я не желаю любить увяданье. Какая же в нем красота, в увяданье? Сегодня листочек еще золотистый, а завтра он – глядь! – и дрожит, совсем жалкий. А также и птичка. Сегодня порхала, синела в траве своим востреньким клювом, а завтра – глядите: летит уже в Африку и будет там, в Африке, тоже порхать среди чернокожих каких-нибудь птичек.
А осень в Москве! Это просто несчастье. Зарядит с утра серый меленький дождик и косит, и косит до позднего вечера. Детишки недавно еще вот играли, резвились все в лагере (детском пока что!), скакали по травке, купались на речке и лютики рвали в лесу, а теперь? Теперь рассадили их, бедных, по партам и мучают строгостью образованья. Зачем ему, горькому, образованье? Вы видели разве, чтобы образован и счастлив к тому же? Ну, ясно: не видели. А чтобы вот необразован и счастлив? Да сколько угодно! Да что говорить! Но раз уж мы заговорили, то – вот вам: я (если бы мне дали волю!) вообще запретила бы образованье. И был бы тогда на земле снова рай. А так что? Сплошные ведь менеджменты! А вы вот ответьте: ну, кто там сидит? И что там у них на плечах, вы не видели? А я заглянула в окно, ужаснулась: у них на плечах просто ведра. Да, ведра. Такие вот узкие, скользкого цвета. Беда-то какая! Ни тени надежды… Оставим мы эту тяжелую тему. Она только слезы во мне вызывает и портит всегда настроенье надолго.
Вернувшись из Тбилиси с еще одной раной на сердце, Полина досидела оставшиеся от отпуска две недели на даче и снова приступила к своей библиотечной работе. А тут как раз дождик пошел, и все погрустнели: надвинулась осень. В четверг, совсем утром – а может быть, в среду? – нет, все же в четверг, она позабыла в троллейбусе зонтик. Держала его на руках, как ребенка, но зонтик был мокрый насквозь, и Полина его положила с собой рядом на пол, а после забыла и вышла как есть. А с неба лило и лило. Намокшие волосы так облепили Полину с обеих сторон, что эта черта разбудила в ней сходство с печально известной святою Инессой, хотя та, мне кажется, немиловидна, но, правда, с хорошей и стройной фигурой. Накрывшись каким-то толстенным журналом, Полина стремглав побежала по улице. Надо сказать, что в этот день на ней был короткий бежевый плащик, купленный в недавно открытом магазине «Ядран», а к этому плащику – синий платочек. В такой очень мелкий и белый горошек. Под плащиком были, конечно, и бусы, и клипсы, и разные штучки. Она, хоть и грустно жилось ей на свете, по-прежнему очень любила наряды.
И вдруг кто-то поднял над нею свой зонтик. Она оглянулась, и сердце в ней дрогнуло. Не женщина, нет, не старик, не старуха раскрыли над ней этот старенький зонтик. Старуха вообще ничего не раскроет, а если раскроет, то старческий рот свой, и женщина вряд ли раскроет, поскольку не любит ни с кем этот зонтик делить. А вдруг куцый дождик испортит прическу? Как будто все дело в несчастной прическе! А дело в другом – в личной жизни, не спорьте. А про старика говорить вообще нечего.
Итак: этот зонтик раскрыт был мужчиной. Облепленная своими мокрыми, как будто пшеничными и спелыми прядями, Полина один только раз и взглянула и так покраснела, что синий платочек, впитавший в себя жаркий цвет ее щек, вдруг из ярко-синего стал почти розовым.
Высокий мужчина с зонтом был похож… Он остро напомнил того человека… А лучше сказать: он напомнил виденье… Его ведь на самом-то деле и не было… Вернее, он был. Вот теперь он и был. Полина прижала намокший журнал к груди и потом уронила его. (Никто и не вспомнил о толстом журнале.) Он был, он пришел! Нет, он просто вернулся. Он ждал ее там, а она ждала здесь.
А я вам скажу, что чем меньше душа, тем чаще она только здесь. Ее и душою-то не назовешь. Забьется в наперсток и крылышки сложит. Начнешь вытрясать: «Эй, душа! Давай, выходи! Полетай хоть немного!» Пищит, как летучая мышь, зубки скалит: «А мне и в наперстке тут нравится, ззззззззззззззззззз!»
Такую не вытрясешь. Надо смириться.
Волосы у незнакомого добряка были светлыми и тоже кудрявыми, как у того, лицо тоже было широким и ясным. Но он был моложе и ростом повыше, к тому же в рубашке и в польских ботинках. Смеясь и ликуя, поскольку вода, идущая с неба, всегда вызывает внутри ликованье, они добежали до двери НИИ.
– Спасибо! Ну, все. Я пришла, – сказала Полина.
– Я тоже пришел, – сказал он и заулыбался чему-то.
– Как: тоже пришел? Я работаю здесь, – сказала Полина.
– Я тоже работаю здесь.
– Но я никогда вас не видела прежде…
– А как вы могли? Вот сегодня мой первый рабочий денек. Принесите мне счастье.
– Да с радостью! Только не знаю, смогу ли…
Она сама смутилась от вырвавшихся у нее слов и тут увидела на его руке обручальное кольцо. Оно было толстым, большим и широким, почти на фалангу. Вот, значит, женат так женат. На всю жизнь.
У Полины подкосились ноги.
– Я Костя, – сказал он с внезапной тревогой. – Вы что побледнели? Вам нехорошо?
– Мне нехорошо, – прошептала Полина. – Я только что гриппом болела. Ну, вот.
– В каком вы отделе? И как вас зовут?
– Полиной, – сказала Полина. – Я в библиотеке… Я библиотекарь. Работаю я с девяти до пяти.
– И я с девяти до пяти. – Он смутился. – Обедать в столовую ходите?
– Да.
– Ну, значит, тогда до обеда, Полина!
Она опустила глаза.
– Мне кажется, вы нездоровы. Что с вами?
– Да нет. Все в порядке.
– Тогда: до обеда.
Он бегом пустился по лестнице вверх, она вошла в лифт. В лифте стояла тоже мокрая насквозь, с размазанной по лицу тушью Татьяна, начальница многих и многих.
– Полина! Ты что вся зеленая?
– Я?
– Ну, ты, ты, Полина!
Лифт дернулся и полетел.
– Я просто, – сказала Полина. – Влюбилась навеки. Я очень люблю.
Татьяна, начальница, молча всмотрелась в лицо говорившей: глаза у Полины вдруг из голубых стали синими, странными. Такой синевы, как платочек, такие, как небо над пашней, когда нет дождя. А вы замечали, как небо над пашней меняет свой цвет? Я не удивлюсь, что вы не замечали. Но небо над пашней – всегда словно пастырь. Всегда в нем особые, жгучие краски. Наверное, боится, что всходы погибнут, что хлеба не будет и что озвереют тогда эти люди, пойдут друг на друга войной и разбоем, и кончится кровью.
– В кого ты влюбилась? – спросила Татьяна.
Ознакомительная версия.