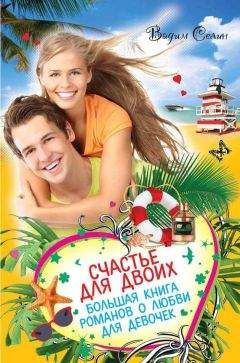Ознакомительная версия.
Она отвернулась в сердцах от Полины.
– Ведь это же каждая может сказать: «Люблю, не могу, помираю, прощайте!» Однако все терпят. Друзья есть, работа. А ты распустилась, Полина, ты просто без гордости женщина! Без самолюбия! Он завтра появится, этот кобель. Прости, не хотела тебе говорить: ведь он к этой, к Кате своей, переехал.
– Откуда ты знаешь?
– Он сам мне сказал! Хотел, чтобы я с ним поныла: «Ах, что ты! Ах, доченьку жалко! Ах, что ты наделал!»
Полина закрыла лицо рукавом.
– Полина!
– Не надо!
И вышла.
И все же! При всех рукавах и рыданьях! С последнею произношу прямотой: всегда и во всем виновата лишь женщина. Соблазны, обманы – все это от женщины. Когда говорят мне, что женщина может пожертвовать жизнью во чье-то там благо, я сразу глаза опускаю, краснею. Мне стыдно. Не верю я этим рассказам.
И что это значит: пожертвовать жизнью? Ты жизнь не на рынке купил по дешевке, она, кстати, и не твоя, эта жизнь.
А вы посмотрите: супружние пары. Ведь кто кем подмят? Кто кого повторяет? Не женщина мужа! О, нет! Никогда. Всегда только муж – дорогую избранницу. Они как-то даже и напоминают своих этих жен. И зады у них бабьи. И все интересы: купить да продать. И все разговоры вокруг бабьей жизни. А что они вдруг полюбили готовить? Кого ни спроси: «Мой на кухне, готовит!», «А мой засолил огурцы на всю зиму!», «А мой пасху сделал, испек куличи!».
Ведь это же просто… недоразуменье! Иди на охоту! Иди на врага! На Чудское озеро, под Ватерлоо! И зад твой покажется меньше в доспехе! И голос твой станет отчасти железным! Пролей свою кровь за права и свободу! Хоть брызни кровинкой-то! Нет, не желают. Пустой разговор. Ну, пеки куличи.
А женщины? О! Тут другая история. Тут сила другая, тут хватка другая. Все избы сгорели, все лошади встали, а женщина скачет, и скачет, и скачет. И ни на бегу ее не остановишь, и ни на скаку. Лучше и не пытайтесь.
Вырвавшись от Татьяны Федюлиной, да так неловко, что круглым плечом зацепила за угол какого-то шкафа (плечо разболелось!), Полина сначала решила, что завтра она на работу не выйдет. Забилась туда же, куда забивалась: под энциклопедию. И вдруг ее словно ударило током. Какая там Катя! Зачем ему Катя! Ведь он же стоял, умолял ее, ждал с кудрями, покрытыми свежей росою! Ведь это над ними, как шелковый полог, с резною листвой, серебристой и черной, от тяжести желтых налившихся ягод, прогнулась лоза! А ведь как он приподнял в ладонях своих ее белые груди и как зашептал: «О моя голубица!» И чтобы теперь вдруг отдать его Кате? Да ты только выгляни, подлая Катя! Да я тебя всю на кусочки порву!
Полина почти задохнулась от ужаса. Ее словно больше и не было прежней. Была одна ярость с лицом то ли ведьмы, а то ли совсем без лица. И эту безликую темную ярость несло в себе жаркое тело Полины, которое сразу же ожесточилось, покрылось колючими, злыми мурашками, и все, кто заметил, как это тело летало по лестнице и не держалось при этом отнюдь за перила, рискуя сломать свою нежную шею, – все эти, сотрудники младшие, старшие, средние, заметивши, очень недоумевали.
Не спрашивайте меня, что она сделала, как она выглядела (а может быть, даже и так, как обычно!), но только через двое суток после того, как начальница лаборатории Татьяна сообщила ей, что Константин Дашевский, оставивши дочь и жену, переехал к зазнобе по имени Катя, всего через двое коротеньких суток Полина и этот же самый Дашевский стояли в промерзшей кабинке, где прежде висел телефон, и вовсю целовались. Они целовались раскаленными губами, впивались друг в друга, потом, оторвавшись, дыхание переводили и – снова. Темно было очень, шел снег, было трудно среди темноты различить, где тут, скажем, глаза, а где нос, но они узнавали по блеску во тьме, что глаза – вот они, и даже когда ты, целуя, смыкаешь дрожащие веки, то блеск твоих глаз проходит сквозь эту тончайшую кожу. Еще хорошо, что Полина (не эта, к которой привык благородный читатель, а хищная ведьма Полина!) сказала:
– Ты, Костя, мне вовсе ничем не обязан.
И камень свалился с души у биолога. Поскольку он, честно сказать, растерялся: какие же все они классные бабы! И новая – Катя, и прежняя – Нина, и эта, еще поновей даже Кати, – Полина Алферова.
Но Нина звонила и трубки бросала, а Катя просила скорее жениться, Полина одна ничего не просила, одна не звонила, не вешала трубку, а просто лицо подставляла губам, и губы ее были слаще малины. А нацеловавшись, они расходились: Дашевский бежал к своей Кате, Полина – к заждавшейся маме, и каждый из них горел целый вечер и целую ночь от этих невинных, простых поцелуев.
Спросите меня: был ли план у Полины? Отвечу вам как на духу: я не знаю. Наверное, был, только не у Полины, а так, как бывает всегда: у судьбы.
Судьба не торопится, хлынет, отступит и снова нахлынет, и снова отступит, а снег все идет и идет с вышины, и лица людей коченеют от холода.
Мадина Петровна сидела в квартире соседки Тамары. На мягком Тамарином желтом диване. Вчера та сама позвонила, спросила:
– Не хочешь зайти? Можно кофе попить.
Приглашение это означало, что капризная и избалованная Тамара, усы на которой чернели, как уголь (хотя были и небольшими усами!), хотела ей что-то сказать.
Мадина Петровна пришла, разумеется. Куря и повсюду роняя свой пепел, Тамара глотнула из крохотной чашечки.
– Ну, не ожидала! – сказала Тамара. Глаза ее вспыхнули и покраснели. – Ай, девка, тихоня! А что? Так и нужно! Вот только…
И вдруг помрачнела, погасла.
– Тамарочка? Что? Говори!
– Я не знаю, – вдруг громко сказала Тамара. – Сейчас полнолуние, не угадаешь. Посмотрим попозже.
– Когда?
– Через месяц. А лучше попозже.
И вырез халата скребнула ногтем.
Надо сказать, что в том НИИ, где работали Полина, Татьяна, начальница, Костя Дашевский, работали разные люди еще. Среди всех работающих находилась и некая Кира Безродная. Она появлялась не слишком уж часто, и тут же ее окружали сотрудницы, чтобы обсудить, в чем одета Безродная. На ней были очень хорошие вещи и, главное, новые. Каждый раз новые. И все оттого, что родной Кирин папа, живущий под той же невзрачной фамилией, с ногтей молодых был ученым членкором. И жизнь его дочки единственной, Киры, была не похожа на жизнь остальных. Испортил он ей баловством сперва детство, потом сразу юность. Теперь Кире стукнуло двадцать четыре, а папа Безродный все не унимался.
И тут вдруг случилось, что этого папу с женою, когда-то родившею Киру, зовут в город Цюрих на целое лето. А Цюрих вам не Переделкино. Это – чужая земля и чужие народы. Сперва папа думал, что и не отпустят, поскольку уж очень лететь далеко. К тому же его берегут здесь, на Родине. Но непредсказуемы судьбы людские. Его отпустили без всякого шума. И папа уехал, и мама с ним вместе. А Кира осталась. И дача осталась. На три этажа. На даче удобства – не как у людей, во дворе, а внутри. Не надо бежать с фонарем, не зная, куда ты бежишь, добежишь ли и кто там. Продукты привозит шофер. И есть повар. Но можно без повара, можно самим. Короче, есть дача со множеством комнат.
Поскольку зима была словно не русской, а квелой какой-то (наверное, как в Лондоне!), то лето пришло неожиданно быстро: в начале апреля цветы распустились. А уж в день рожденья Владимира Ленина такая жара наступила, как будто мы все не в России живем, а в Израиле. Спасались кто где. И вот тут эта Кира сказала: «Давайте поедем на дачу».
Полина поехала с Таней Федюлиной и Таниным мужем Давидом Федюлиным на новой машине Давида Федюлина. Давид вел машину и все улыбался: доволен был тем, как работает двигатель.
Татьяна сказала, что он уже там. С той самой своею любовницей Катей. Полина решила: как будет, так будет. Посмотрим, как ляжет теперь ее карта. Она выжидала и не торопилась. Хотя поцелуи уж месяц как кончились. Светло слишком стало. Погода – как летом. Зима их спасала туманом и темью. Они словно оба теряли рассудок.
– Полина, – сказал он однажды. – Полина! Я так не могу.
А весь телефон-автомат был облеплен сияющим снегом, и губы горели.
– Я так не могу, – повторил он. – Полина! Ведь я же не турок какой-то в гареме!
– При чем здесь гарем? Почему ты не турок? – шептала она прямо в губы губами.
– Полина! – И он застонал. – Ты пойми! Я бросил жену, чтобы жить теперь с Катей. Наташеньку бросил. Полина! Ты слышишь?
– Какую Наташеньку? – Снова прижалась к губам его жадным, и оба замолкли. – Ведь я ничего, ничего не прошу…
– Но я ненавижу себя, – прошептал он. – Я только смотрю на часы: поскорей бы! Нырнуть с тобой в эту проклятую будку и сразу забыть обо всем! Обо всем! А как же они?
– Кто?
– Наташенька, Нина. И Катя, конечно. Она меня ждет. Ведь я к ней ушел, я семью свою бросил! А тут словно мне ничего и не нужно! Стоять с тобой так вот хоть целую жизнь…
– Давай простоим…
– Не могу! Если Катя узнает, что я… Нет, Полина! Ужасно! Я что? Сексуальный маньяк?
Ознакомительная версия.