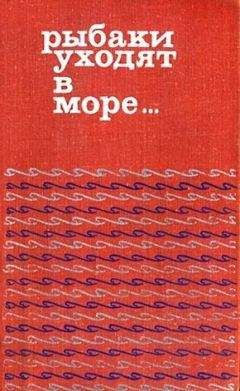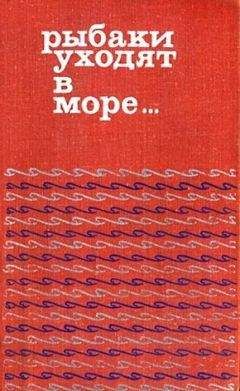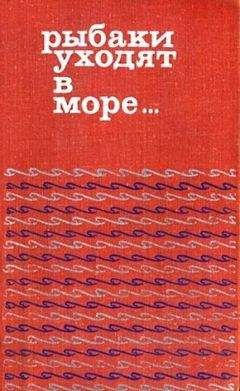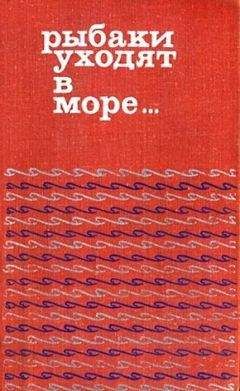* * *
Собрание? По-твоему, они говорят насчет собрания, которое Оуфейгур предложил созвать? Ты думаешь? Чепуха, на это собрание и не придет никто. Они ведь сами сколько раз говорили, что не будут понижать расценки. Скорее уж правительство пойдет на девальвацию. Считаешь, что ему не позволят? Ну, конечно, я знаю, что оно не само решает, оно тоже зависит от кредиторов, это ясно. Говоришь, при девальвации жалованье все равно упадет, — да, конечно, но зато у всех одинаково, понимаешь? Нет, просто так расценки они не понизят. Ведь тогда сразу же начнется забастовка, наверняка. Так что я не понимаю, чего Оуфейгур добивается. Нет, это все только ухудшит дело. Нужно действовать осмотрительно. Что — право на забастовку? Думаешь, руководство не подскажет, когда будет подходящий момент для забастовки? Руководство союза, парень, нашего союза. А про какое руководство я, по-твоему, толкую, про правительство, что ли? Больно нужно! Я уж тысячу раз говорил, что удивляюсь, как это наше правительство до сих пор держится, давно пора его разогнать к чертовой матери, да только вот вопрос, будет ли другое лучше. Эй, погляди, Клаус вскочил с места, размахивает ручищами. Ишь, как его проняло! Что же они, черт побери, обсуждают? Думаешь, дело Додди? Да нет, с ним покончено, совсем покончено. Говоришь, на листке было написано; знаю этот листок, мне его вчера вечером сунули в почтовый ящик, да я не читал, сразу бросил в корзину. Шпик, смотри-ка, Шпик! Это он им чего-то набрехал, чтоб ему в аду жариться на вечном огне! Может, он теперь на нас наговаривает. На нас! Слушай, парень, давай дальше убирать, разве можно бездельничать у них под носом! Вон Шпик повернулся в нашу сторону. Нагибайся, парень, нагибайся, не жалей спину. Тут же еще полно мусора.
* * *
Вид у меня тогда был неважнецкий? Это ты мне? Да ты бы на свою рожу посмотрел! Я был, скажу тебе, такой злой, что стоило мне открыть рот, и я бы не знаю чего наговорил. Я бы на него кинулся, дал бы как следует; ну что ты, я только хочу показать, как бы я ему дал. Когда я злюсь, так совсем теряю голову. Я бы его, наверно, пристукнул на месте, если бы он не бросил свои идиотские штучки — ишь руки распустил, да еще лопочет чего-то на этом дурацком языке, которого и не понимает никто. А те-то ржут, скоты! Он, дескать, пошутил, просто захотел показать, какой он компанейский парень, этот шут гороховый! А Ищейка еще спрашивает, как мы, мол, довольны или нет. И я, конечно, ответил «да». А ты? Ты, может, ответил «нет»? Мне-то показалось, друг, что ты сказал «да» и еще весь до ушей расплылся от удовольствия. А как по-твоему, зачем они велели ему спросить? Специально чтобы разнюхать, как мы настроены. Может, мы считаем, что руководство плохое и нужно всех сменить, понимаешь? Другой вопрос, станет ли от этого лучше. Я уж хотел пожаловаться на Фрица, да, представь себе, чтобы он прекратил свои штучки, и пожалуюсь, если не перестанет. И о Шпике я, между прочим, кое-что знаю, и ему это известно, так что не думай, я не позволю над собой измываться. Пусть эти надутые немцы у себя дома дают волю рукам и оскорбляют честных тружеников — тоже шутники нашлись! Что будет, если мы все сговоримся и дадим им отпор? Что ж, мы могли бы прямо-таки приставить им нож к горлу, устроить, например, забастовку и вообще перестать работать на них. Что ты говоришь — повесить их за ноги? Или обычным способом? Фу, парень, да ты не в себе! Какая муха тебя укусила? Вешать людей! В нашей стране! Ну пусть они иностранцы, все равно. И другие парни об этом говорили — что хорошо бы повесить Фрица и Клауса? Ну, конечно, шутки у них глупые и вообще они ужасно противные, все немцы противные, по крайней мере те, которые здесь работают, но все же пусть ребята поменьше болтают, никогда не знаешь, кто тебя может услышать. А немцы, что ж, надо учитывать, что они все-таки иностранцы и у них дома все иначе, чем у нас. Нужно проявить — ну, немножечко такта, пока они не привыкнут. Что ж, по-твоему, они к нам должны приспосабливаться? И чтоб уступки были взаимные? Ну что ты, ведь они начальство, а от начальства все равно никуда не денешься. А всеми высшими должностями распоряжается Трест, ты же сам знаешь. Слушай, ты видел, как я высунул язык, когда он проходил мимо? Ничего подобного, он не повернулся спиной, он все видел. Не заметил, что ли, как его передернуло? Да, я сам бы не прочь над ним подшутить, но вешать — нет, это уж слишком. Ко всему прочему, можно повесить неудачно, а это еще хуже. Мой папаша пробовал однажды повеситься, но ничего не вышло, я увидел и снял его. Сейчас он живет в доме для престарелых, но только с тех пор так и не оправился. Почему он хотел повеситься? Да ничего особенного… ну, как сказать… в общем, были, конечно, свои причины…
Наверно, из-за того аукциона. Англичане, когда уходили[3], устроили аукцион — чертовски много всего продавалось. А папаше ужасно хотелось заполучить один ихний барак. Все прямо с ума сходили по этим баракам — их ведь можно было приспособить и под хлев, и под амбар, и под кладовку — в общем, подо что хочешь. И барак-то стоял на самом краю папашиного туна. Но думаешь, они уступили старику? Как же, жди, они, наоборот, взвинтили цену черт те как. Но старик твердо решил заполучить барак, потому что старый хлев уже никуда не годился: крыша совсем провалилась, и скотину держать было негде. Мы оба тогда работали. Без конца что-нибудь подвертывалось, мы и вкалывали все лето как сумасшедшие. Все время, пока они были у нас. Но зато мы тогда хорошо заработали. Ну и времечко было! Столько было надежд, столько планов — особенно вначале. Разве могло нам когда-нибудь прийти в голову, что откроются такие возможности? Папаша надумал строиться. Он, можно сказать, только решил развернуться, а они вдруг собрались уходить. Да, уж такое время наступило, все изменилось, а первым делом люди. Взять хоть меня. Рос я дома и ни черта не знал, застенчивый был, как девица, которая даже голого мизинца на ноге у мужика не видела. В общем, надо сказать, парни у нас стояли неплохие, хотя попадались всякие и, что греха таить, случались иногда кое-какие неприятности; да, никто раньше не подумал бы, что такое может у нас случиться. И вот понемногу я понял, что нечего совать нос в дела, которые тебя не касаются. Полезный урок, правда? Он мне потом пригодился. Да, а папаша получил-таки этот барак. Только пока он был на аукционе, начался прилив, море затопило шхеры у Нэса, и все наши овцы утонули. Все-все до одной, а их было не меньше шестидесяти. Все полезли в море, пока он сражался за этот барак. Ну как будто дьявол в них вселился — именно в этот самый день. Обычно они сами уходили от прилива, а тут вот не ушли и все потонули. Провалиться мне на месте, если они это не нарочно. И когда папаша нашел на берегу любимую мамину овцу — а она была уже мертвая, совсем холодная, — он пошел в барак и повесился. А англичане тогда уже совсем ушли.
* * *
Ты думаешь, наверно, что он не мог перенести такого убытка? Ну, конечно, для нас это была большая потеря, но все-таки он бы смирился, если бы… Не знаю, поймешь ли, ты ведь моложе меня, но вообще в жизни так: сколько вещь стоит на бумаге — это одно, а как ее владелец ценит — совсем другое. Для папаши самое главное было овцы, он и за собственность считал только овец и землю. И до того как они пришли, мы всех своих овец звали по именам, всех до одной. Сейчас в этих огромных хозяйствах у овец только номера. А когда кто-то получает номер — все равно, человек или животное, — он сразу становится совсем не тем, чем был. Когда мы начали работать у них, нам дали номера, и потом мы уже никогда не могли от них избавиться. Везде — черт бы их побрал! — везде у тебя номер. Вот в самолете, например, тебе дают карточку, и ты становишься номером. Если самолет разобьется, будет известно, что номер такой-то погиб, и кто-то определит по карточке, что этот номер — ты. Черт знает сколько у меня было номеров с тех пор, как завели эту моду. Человека переставляют в картотеке туда-сюда, и первым делом смотрят на номер. И когда ты получаешь номер, к тебе уже совсем другое отношение. А мы никак не могли избавиться от глупой деревенской привычки. У наших овец были имена. Однако богатства нам это не прибавило. До их прихода мы вообще не знали, что такое деньги, только при них и поняли, что значит работать за плату. А мне ведь было уже почти двадцать! Можешь себе представить, что стало бы с нынешними подростками, со щенками по четырнадцать — восемнадцать лет, если бы им первый раз показали деньги? Или с мальчишками поменьше? Да они бы просто взбесились, все как есть, и мы заодно, глядя, что они вытворяют. Они бы кинулись красть все, что под руку попадется, грабить, убивать, и мы бы ничего не смогли поделать. Работа — вот единственное спасение для нас и для них, ну и деньги, соответственно, откуда бы они ни брались. Чего зря шуметь? Мы же все равно ничего не можем. Я и говорю, что своей жизнью я доволен, в общем, доволен. Только вот вся эта иностранная сволочь… Американцы, конечно, имеют полное право посылать сюда кого и сколько захотят, но почему всегда таких сволочей… И потом иностранцам платят больше, чем нам, это все знают. Они, конечно, специалисты, по крайней мере нам так говорят. Да нет, правда — и это, и многое другое тоже. Например, к нашим ценам они не привыкли, тут, знаешь, нелегко приспособиться.