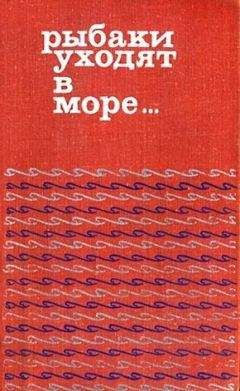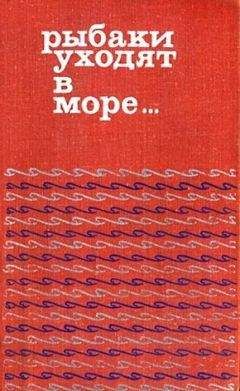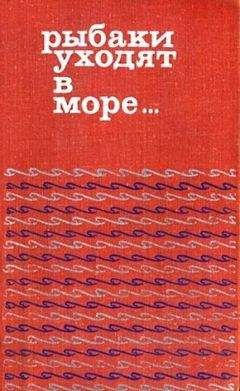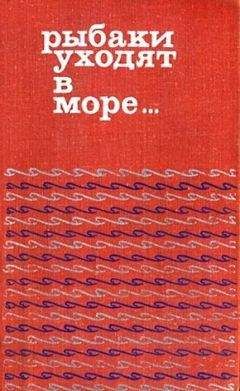* * *
Ну вот, а теперь про мою сестру, про Ингу. Когда они пришли, ей было что-нибудь около семнадцати. Местечко у нас крошечное, маленький рыбацкий поселок; а с тех пор как селедка ушла от нашего берега, так почти совсем никого не осталось. Ну и еще несколько хуторов; люди рассказывали, вполне приличные были хозяйства, пока селедка ловилась. Правда, я про те времена мало знаю, я еще маленький был, когда селедка ушла, а при мне все уже развалилось. Я только видел брошенные дома, там они и поселились, когда пришли. Был, конечно, и причал, и базарчик, но все это давно уже разрушилось, обвалилось. Мы ничего не знали про войну. Рассказы про войну мы слушали, как старые саги или рыцарские романы, или еще что-нибудь в этом роде. Мама, правда, нет, она была ужасно слабонервная, не могла, например, мешать овечью кровь[4]. Папаша однажды ее заставил, они тогда только поженились, и он не хотел, чтобы его жена бездельничала и прикрывалась болтовней о слабых нервах. Но мама потеряла сознание и упала в корыто с кровью, так что папаше пришлось бросить недорезанного барана и вытаскивать ее, и он это на всю жизнь запомнил. Мама боялась войны. Потом пришли они, и мы стали у них работать. Мы раньше ничего не знали о солдатах и думали, что они не такие, как другие люди. И когда мы их в первый раз увидели, нам сначала так и показалось. Они все были одеты одинаково, только начальство немного иначе. И хотя они были разного роста и разной толщины, но двигались все одинаково, и лица у всех были как будто пластмассовые. Они могли часами стоять неподвижно, ну прямо чурбаны, и у них не было имен, одни номера.
А когда мы стали у них работать, мы тоже превратились в номера. Наверно, мы все, как мама, боялись их, наслушались-таки бабьих россказней. Не знаю уж, чего мы боялись, скорее всего, считали, что, если мы не будем выполнять их приказы, они нас убьют. Англичане вообще-то мастера вешать. Отхлестать ремнем, а потом вздернуть на том же ремне — это им раз плюнуть. В этих делах никто их не превзошел. Да, так мы не то чтобы боялись за свою жизнь — я по крайней мере не боялся, да и другие не очень, — но просто мы ничего, кроме своих хуторов, в жизни не видели и были все ужасными дураками. У всех головы набиты глупыми бабьими россказнями, вот мы и не понимали, что солдаты — такие же люди, как мы, а некоторые — так просто мировые ребята. Мы никак не могли уразуметь, зачем они к нам пришли, поняли только, когда война кончилась. Мы думали всегда, что они явились ради собственных интересов или интересов своих правительств, хотя кое-кто и утверждал, что они защищают нас от немцев. Мы знали только, что это солдаты, в касках, с ружьями и другими страшными штуками, которых мы раньше и не видели никогда, разве только на картинках. Мы, наверно, считали сперва, что они вроде как деревянные, мы бы не удивились, если бы их стали резать, а кровь бы не полилась. Вот какими мы были дураками. Но потом они стали улыбаться и протягивать нам руку, и мы увидели, что они могут и смеяться, и болтать, и чувствовать боль — совершенно как мы. И даже случалось, что они плакали, когда читали письма из дома. Словом, мы поняли, что хоть они и солдаты, но ничем не отличаются от нас. И они рвались домой, хоть там и были воздушные налеты и вся эта чертовщина — еще бы, ведь дома у них остались и жены, и ребятишки, и старики, и братья, и сестры, и невесты, и собаки, и кошки — все, как у людей. И мы стали их жалеть. Начали болтать с ними, приглашали к себе на чашку кофе, когда они бывали свободны. Правда, я — нет. Мама была такая слабонервная, она не разрешала мне приглашать солдат, хотя тоже стала жалеть их, когда узнала поближе. А Инга, сестра, и слушать про это не хотела — она говорила, что они оккупанты, а оккупантов не приглашают на кофе. Но она это только напускала на себя, она ведь была обыкновенная девчонка и с нормальными нервами. Тут все дело в ее женихе, Эйрикуре, он был ужасно против иностранных войск. Собственно говоря, они не были по-настоящему помолвлены, но как-то само собой подразумевалось, и у нас дома тоже, что он ее жених, хотя он гораздо старше ее; когда они пришли, ей было около семнадцати, а ему уже под тридцать. Он чем-то напоминал нашего Оуфейгура; правда, он был не студент, а агроном, но я хочу сказать, что он тоже вечно чем-то возмущался, и носился со всякими фантазиями, и забивал себе голову разными книжками. И когда мы начали работать у англичан, он остался дома. Возился со своим туном и овцами, рыбачил вместе с отцом и вообще считал, что ему не о чем беспокоиться, раз у него есть собственная земля и лодка. Господи боже, собственная земля и лодка! Я-то уверен, что он нам зверски завидовал, ведь мы сколько зарабатывали! Но он молчал, не хотел поступиться своей гордостью, хоть и видел, что нас не бьют и не вешают, а наоборот, у нас полно денег, plenti monni[5],— и они достаются нам даром, ну почти что даром…
* * *
Какая была работа? Что мы делали? А пес его знает, не помню. По-твоему, странно? Что же тут странного? Нас не касалось, что мы делали, мы получали деньги — и все. Ты тогда еще под стол пешком ходил, но у тебя наверняка есть знакомые, которые в те годы работали на иностранную армию. Разве они когда-нибудь рассказывают, что именно они делали? Нет, и знаешь почему? Просто потому, что они этого уже не помнят. А что тут удивительного, если человек позабыл, что он делал много лет назад? Я уж тебе говорил — не все ли равно, что ты делаешь, лишь бы тебе платили хорошо, а все прочее тебя не касается. Я работал у них два-три года, хотя нет, меньше, они ведь не сразу в наших краях появились. А может, и все четыре? Все хочешь, чтобы я вспомнил, что же мы делали? Нет, парень, когда мне случается встретить земляков, мы говорим про разное: чаще всего, как водится, про баб, а то про рыбалку или как мы искали яйца крачек, когда были мальчишками, да, про всякое такое, но никогда не вспоминаем, что мы делали у солдат. Ну, случается иногда сказать — вот когда я работал у англичан или там у американцев… но что мы тогда делали — нет, об этом речь в жизни не заходила. Да, может, это и вправду немного странно. Ну вот, я помню, например, что мы прокладывали дорогу от Нэса, где утонули папашины овцы, до вершины горы. Там на горе у них был сторожевой пост, что ли. И дорога-то прошла как раз через папашин тун, так что папаша получил порядочную компенсацию. На краю туна они поставили будку и еще барак — тот, в котором папаша потом повесился, неудачно, правда. А в будке днем и ночью стоял часовой. Я помню, мама ужасно испугалась, бедняжка, когда его первый раз увидела. Будка стояла как раз на старой коровьей тропе, а коровы ведь такие, ни за что не станут ходить другой дорогой. Засунут морды в будку и пускают слюну, знаешь, коровы всегда так, когда увидят что-нибудь новое. Зачем у них там стоял часовой, понятия не имею — наверно, дорогу охранял. Мы сначала побаивались, вдруг они с этим делом заведут какие-нибудь новые порядки, а мы в них не разберемся, но ничего, все шло нормально. И коровы привыкли к будке и больше не совались туда, и часовой не обращал на них внимания. Мы уж и перестали его замечать, только мама, наверно, все не могла привыкнуть, очень она любила эту старую коровью тропу. Да, так они провели дорогу через весь наш округ Мули, до самого фьорда. И на берегу вырос городок, вполне приличный торговый городок, так, по крайней мере, мне тогда казалось. Там много кто жил из ихнего начальства. Туда заходили большие суда, и даже аэродром там построили. Возле нас тоже был аэродром, временный, конечно. Нам случалось ходить в город на вечеринки — ох и весело же бывало! Дорогу-то, собственно, начали строить еще до них и ужасно с ней носились, но, по-моему, никто не верил, что мы сумеем дотянуть ее до фьорда. Казалось бы, дорога — ну и что из этого? Так нет же, с этой дорогой все изменилось. Некоторые начали подумывать о машине. Эйрикур купил грузовик, старую разбитую колымагу, ей богу, не знаю зачем, наверно, просто из-за того, что построили эту дорогу. Сам-то я не помню ни как ее прокладывали, ни случаев никаких интересных — работали и все, ну и деньги, конечно, получали. Да ведь и здесь, черт побери, все то же самое. Разве тебе не плевать, что тут делается? Работаешь, тебе платят, ну и все, остальное тебя не касается. Что я могу потом вспоминать о нашей работе? Нам ведь начхать на эти заводы. Ну ясно, мы хотим, чтобы они остались, кто ж спорит. Мне совсем не улыбается потерять работу. Ведь что тогда с нами будет? Молчишь, бедняга? Небось знаешь не хуже меня, что тогда мы все подохнем с голоду. Вот так-то! Нет, мне начхать, какую работу я делаю и для кого, лишь бы была работа и мне за нее платили. Начхать, ну вот ей-богу, начхать…