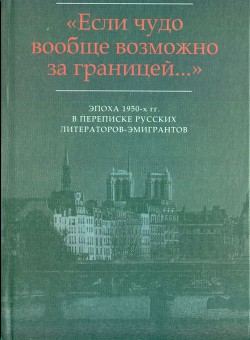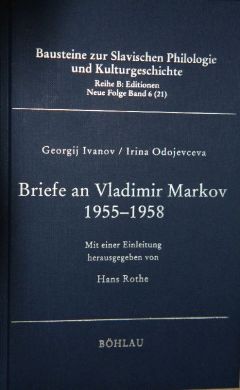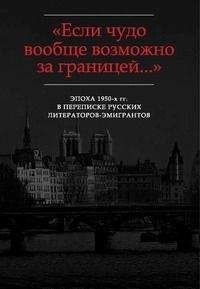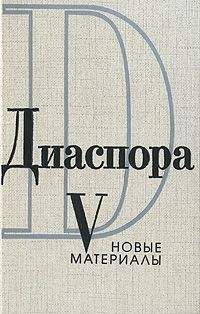Ну, вот я и подумал: не в этом ли дело? Но если в этом, почему было мне не написать прямо? М. б., Вы думаете, что я — как Николай Авдеич [272] — стал бы дуться, завидовать? Могу поклясться, что, кроме удовольствия, во мне это ничего не вызвало бы. Даже больше: самой настоящей радости (плюс надежда на подачку!). Все другие чувства во мне окончательно «переплавились, перегорели», да и миллионной доли расчета на что-либо подобное для себя я не имел никогда.
Ничего невозможного в этом, в сущности, нет. Qui sait? [273] Маловероятно, но возможно, и, значит, надо надеяться. Только если статья и имеет значение (по-моему, нет или почти нет), то как раз глубокомысленная и не слишком ударная и грубая. Мне Алданов рассказывал, как Duhamel [274] себя погубил чем-то таким, на что в Стокгольме сказали: «jamais» [275]. А главное, они хотят возвышенного образа мыслей и высокой морали. Дюамель, впрочем, подошел бы, но кто-то за него перестарался.
Очень бы хотел знать, верно ли я догадался. М. б., нет? Тогда простите, дорогие товарищи, но повторяю: готов содействовать в размере своих слабых сил сколько могу и всячески помогать, а затем и радоваться de tout coeur [276].
Ваш Г. А.
33. Г.В. Адамович — И.В. Одоевцевой
104, Ladybarn Road Manchester 14 16/XI-57
Chere Madamotchka
Получил Ваше письмо с «документацией». Еще не все прочел, даже только повертел в руках, но намерен насладиться, т. е. прочесть медленно, перечесть пять раз. Иначе не стоит. На каком-то стишке Жорж спрашивает, как у меня было: «вернее, циан<истый> калий» или «точнее, циан<истый> калий»? Точнее [277]. Но зачем это ему? Как водится, он у меня этот калий украл вместе с розовым небом. Впрочем, насчет калия было непостижимое совпадение с Сологубом [278]. Помните? Боже, как это было давно. Юрка Султанов [279] и все прочее. И вот мы все живем и не унываем. Вы-то еще цветочек, а я! Кстати, очень рад, что Вам пришелся по душе мой Анненский [280]. Я это писал с целью «восстановления истины», ибо теперь получилось, что главный анненкист — Маковский, с покойником Ставровым. (Это он мне говорил о Тютчеве и просил отметить, какие у Тютчева стихи «хорошие»! [281]) А еще было тайное желание, нереализованное, вновь объединиться, собрать Цех, чтобы Вы были с бантом, а Оцуп плел какую-нибудь чушь, все как прежде, — а потом разойтись окончательно. Qu’en pensez vous? [282] У Жоржа к этому нет охоты никакой, а у меня очень, вроде как Блок все вспоминал, помирая, свою «Прекрасную Даму». Кстати еще: с Оцупом что-то случилось, мне написал Бахрах: «знаете ли Вы о несчастн<ом> случае с Оц<упом>?» Я взволновался — дружба, русская литература! — написал Гингеру, от которого это шло, но, оказалось, не «несч<астный> случай», а какая-то болезнь, угрожающая зрению и требующая кашки в виде диеты. Хорошо, кончим о делах: статью сочиню и пошлю до каникул. «П<ортрет> без сходства» [283] мне, конечно, нужен бы, но могу и обойтись, посколько я его приблизительно помню, т. е. не отдельные стихи, а дух и стиль. На крайность, возьму в Париже и что-нибудь добавлю и исправлю. Еще мне надо бы статью Гуля [284], чтобы не очень с ним разойтись и не очень сойтись, раз он в журнале начальство. Но это я, вероятно, достану здесь или поищу, надеюсь — есть. Сейчас, между прочим, читал в одн<ом> советском журнале о Нарбуте [285]: что он был в 1919-21 или 22 г. большевиком, чем-то на юге заведовал, был дружен с Багрицким и издал книгу «Огненный столп», не зная, что «Столп» есть у Гумилева. Знал ли все это Жорж? Там же есть его стихи, ничего, но противные.
Теперь поговорим о главном — о любви. Пожалуйста, Madame, опишите мне Ваши испанские страсти, т. е. вокруг Вас, и все вообще. А Макеев? «Тебя, как первую любовь…» [286] Еще напишите о своем здоровье. Je пе vous vois pas malade [287], а Вы все пишете про слабости. Какие, почему? Ну, вот я напишу статейку, Вы получите миллион, и все войдет в норму. Я, конечно, понимаю (и как!), что безвыездно в богадельне, даже при всех южных красотах, можно очуметь и расслабиться совсем. Я тут тоже вроде богадельни, но с налетами в Париж, довольно часто. Моя «любовь», верно, ко мне на Рождество явится, надо копить капитал, не для платы, а для развлечений, сами знаете, то да се.
Ну, дорогая Madame, ангел души моей, до свидания. Я верю в Вашу дружбу и прошу меня не обмануть и не разочаровать. Все бывает. Но это было бы мне весьма прискорбно, тяжко и обидно. Знаете, у меня есть стишок про императора Павла? [288] Так вот. Впрочем, Вы, верно, забыли. До свидания. Жорж — свинья, никогда не пишет ни слова. И вообще — свинья. Он когда-то, глядя на мой барометр, сказал, что я — «великая сушь». А сушь — он. Кстати, не мог я и тогда понять, почему его этот барометр (и градусник) так поразил. Таня на днях вернулась в Варшаву, но, верно, приедет зимой или весной опять. Я ее немножко забыл, но она — очень милая, такая же, как была, хотя толстая старуха.
Ваш Г.А.
Напишите про здоровье.
34. Г.В. Адамович — Г.В. Иванову
3/XII-57
А с 12-го — Париж, как обычно
Дорогой друг Георгий Владимирович
Письмецо Ваше о «грязи, нежности и грусти» [289] получил и с великим трудом разобрал. Что за почерк! Вроде Наполеона или Маклакова [290]. Сплошные блохи и кружочки. Ну, а теперь — ответ, «чему следуют пункты», для ясности:
1) Откуда Ты взял, что я в жизни всего «вкусил» и катался как сыр в масле? Меня это глубоко поразило, как и то, что я тебя «не понимаю, как сытый голодного»?! Я в сто раз более голодный. У тебя красавица-жена, семейная жизнь, на столе самовар и прочее. А я мыкаюсь, неизвестно зачем и для чего. Ты меня уверял в последний разговор наш, что я — «как Бердяев». Во-первых, меня, наоборот, все шпыняют и называют дураком, а во-вторых — и в-третьих, и в-сотых: что с того! Ну, я — Бердяев, а Ты — Пушкин, а дальше? На этом — точка.
2) Насчет нашей предполагавшейся переписки. Я будто бы начал с «чуши о ямбах». Голубчик, с ямбов и надо было начать, никак не с вечности. Да и ямбы — не чушь, т. к. я хотел обозреть всю галерею поэтов, а не писать, что есть жизнь. Теперь — единственный возможный корреспондент Чиннов. К нему и обратимся, т. е. я. Еще есть Иваск, но уж очень переутончился не по летам.
3) Помер Ремизов. «Опыты» я получил — и все оценил по достоинству насчет Ремизова [291]. Но теперь негодовать не время. Однако особенно умилил меня Вейдле со «Славой» [292] под конец. Что за перо у этого человека.
4) Ну и еще разные мелкие пункты, не стоит писать о них. Например, насчет детективных романов. Это меня еще удивило в эпоху Мурзилки: до чего же разные существа. Я ни одного такого романа до конца не дочитал и предпочитаю смотреть в потолок.