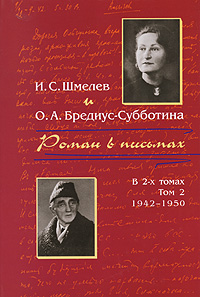подсказывает та, но он сбит… Я вижу его, как собирает он носик…
— Не могу, забыл, — плачет он… — Зачем ты меня соблазнила?! Зачем соблазнила?!
Он трет глаза кулачками и не может закончить молитву. Соня бьется с ним, уговаривает сегодня уж так идти в кроватку, — смотрит на меня с укоризной.
Вот, вот… все так и было… И от воспоминания этого мне становится так невыносимо, так сжимает сердце, подступает ком к горлу… Но _т_о_г_д_а, тогда я не поняла, не знала, что я сделала.
А вчера вот, — все открылось! Вдруг открылось!
9
О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву
Письмо второе
Я уныло брожу, мне не найти себе места. И когда мама утром сказала, чтобы мы недолго гуляли, а то устану я, что за вечерню мы пойдем в кладбищенскую церковь, а не в нашу, и что останемся там исповедоваться, — то у меня сдавило сердце. Гулять не хотелось, но тянуло посмотреть страшную картину на паперти… Не повела Соня, — торопиться к обеду надо.
— Ну, что же ты не ешь? Не любишь горох, а вот и съешь его, и будь умница!
— Ах, не от того, что не люблю, а просто не глотается чего-то. Еще несколько часов до исповеди…
Я бегу в «учебную» комнату и достаю маленькое Евангелие. Тихонько (Соня отвернулась) я вчера зернышками канарейкиными заметила местечко, где читала Соня, чтобы еще перечитать. Вот оно: «И кто примет одно таковое дитя во имя Мое, тот Меня примет. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня; тому лучше было бы, если бы мельничный жернов повесить ему на шею, и бросить его в глубину морскую. Горе миру от соблазнов: ибо надобно прийти и соблазнам: но горе тому человеку, через которого соблазн приходит»92.
Тоскливо заныло во мне и потянуло в животе даже…
«Соблазнила»… Так и сказал: «соблазнила». Не было сомнений… — Господи, что же я сделала?!
Тихо в комнате, — только «кенка» скачет с жердочки на жердочку, сыплет зернышки. — Пи-и, пи-и, позывает она грустно. И от этого еще тоскливей. Со стены смотрят любимые картины… Вот, Христос и дети, и надпись… «Таковых есть Царствие Божие»93. Я взбираюсь на стул, чтобы лучше увидеть все, и стараюсь угадать: _к_а_к_и_е_ детки? Маленькие? Меньше меня?
Вот, маленькие, совсем маленькие, на руках, а вот побольше… Но сколько лет им? Семь? Меньше?
— Господи, — горестно шепчу я, складывая на груди ладошку на ладошку, — отчего же не умерла я до 7-ми лет?!
И жалко и себя, и ангелочка, который плачет, и страшно ужасных жерновов. Мерещится страшная картина на паперти. Я смотрю на доброго Христа с детками, и так мне хочется, чтобы и меня Он погладил и пожалел…
Меня одевают впервые в драповое пальтецо, и маленькие калошки. Полегче стоять, да и тепло очень.
Снег в саду сильно стаял и осел, а по дорожкам уже кое-где видно глинку. За день нагрело так, что льет, журчит ручейками, и так приятно было бы пошлепать по лужам!.. Но не радуют ни пальтецо, ни калошки, ни лужи…
— Свадьба, свадьба! — орут мальчишки вслед перелетающей с альтистым цоканьем стае галок.
— Им весело! — думается, и я вздыхаю.
Мы идем мимо лавчонки, где Соня покупает «крошки», мимо аптекарского магазина, где дают в премию какую-нибудь игрушку. Обезьянки, вагончики, куколки.
А вот и вокзал, а там, за полотном и кладбище93а. Мне хочется вздохнуть еще, и еще, и все поглубже.
— Что ты? — спрашивает мама и притягивает к себе мою руку. В один миг мне хочется рассказать ей все, выплакать свое горе и узнать, «простится» ли?
Но я не могу, не могу и отвечаю: «так!»
— Ты не бойся, отца Константина ведь знаешь, — ну и поговори с ним!
Я и не боюсь отца Константина. Старенький, седенький, он все качает головой, будто поддакивает, так похоже на китайскую куколку у мамы на этажерке.
Нет, его я не боюсь.
На кладбище очень тихо, только галки гомозятся в березах. В церкви полутемно и тоже тихо. Мы становимся вперед, за каким-то образом. Я помню, стоял там стулик, а около него сухонькая юрконькая старушка. Она оглядела нас, чужих, подергалась плечиками и что-то сказала маме. Видно было, что это — ее место, потому что она меня все _у_с_т_а_в_л_я_л_а: то подвигая вперед, то оттягивая назад, то в сторонку. То и дело оправляла мне косички, разглаживала ленточку на шапочке-матроске. Мне не молилось. Мурашки бегали в ногах и ныло чем-то тоскливым в сердце.
«Боже, помилуй мя грешного!»94 — прорывался порой шепот о. Константина. И он, размашисто крестясь, клал немые поклоны. Крепко сжимая щепоть, я врезывалась ногтями в лобик, шептала и тоже кланялась.
«Господи, Владыко живота моего…» — раздавалось снова громко… и, повторяя шепотком, я так старалась вникнуть в смысл этих малопонятных, малознакомых слов.
Старушка рядом чего-то вдруг засуетилась и что-то стала шептать маме.
— Я уж, матушка, сейчас пройду, дело-то немолодое —, устала. Я всегда уж так, первая иду. А коли деушка-то Ваша устала, дак пускай со мной вместе идет, какие у ней грехи-то, — да и у меня-то ей нечего наслушаться.
— Пойдешь с баушкой? А? — дышит она мне в ухо.
— Господи, что же это? — думаю, заливаясь румянцем. — Кто она? Зачем она должна все обо мне услышать?
И мое горе, мое первое горе давит меня всей своей тяжестью. Я смотрю умоляюще и на нее, и на маму, и ничего не могу сказать.
— Нет, зачем же, идите Вы первая с Богом, она не устала. Говорит за меня мама.
Господи, — думаю, — м. б., мама догадывается о моем грехе, м. б., она что-нибудь знает?
Я не замечаю конца вечерни, даже молитву перед исповедью, вся я в думах о моем грехе.
И когда о. Константин вышел в ряске и епитрахили на клирос, не поняла даже, что _и_с_п_о_в_е_д_ь_ уже началась. Казалось, что вечность прошла с тех пор, как двинулась к клиросу старушка, еще в последний раз переставив меня и отдернув мое пальтецо.
Я ничего не могу думать, и кажется, что все, все забыла. Все, кроме _т_о_г_о, страшного, ужасного греха. Старушка кувыркается как-то на колени, и потом, сокрушенно вздыхая и крестясь, направляется к своему стулу.
— Ну, поди ты теперь, Господь с тобой! — слышу я, и мягкие руки тихонько толкают меня вперед. — Поди к батюшке, не бойся.
Холодком каким-то, будто ветерком понесло мои ноги, и я, сама не знаю как, очутилась перед о. Константином.
— В первый раз пришла к исповеди? — подергивает