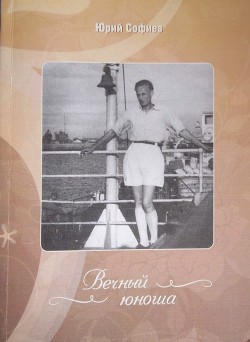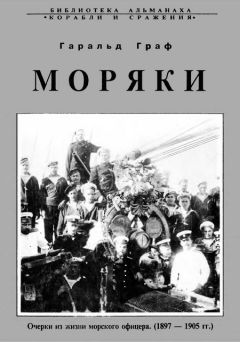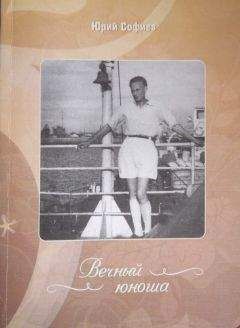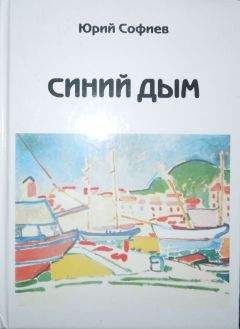Обещала познакомить со стихами Ирины ряд московских и ленинградских писателей.
Я тебе говорил, что Ник. Ник. написал книгу об Ирине. Написана она в очень интимном, «семейном духе» и больше годится для «семейного архива», чем для широкого круга читателей и, тем более, наших советских.
Так как творчество Ирины слишком интимно переплетено с ее личной судьбой и т. к. Ник. Ник. вложил в книгу и свое, сугубо субъективное, любовью (…) к Ирине — не сумев или не захотев связать эту судьбу с судьбами времени — получился «трагический человеческий документ», очень узко интимного характера.
Я верю, что если бы Ирина дожила до возвращения (в те годы, когда об этом поднимался вопрос — возвращаться она не хотела: «Отдам Игоря Юрию, пускай уезжает с ним в Россию, а сама кончу жизнь самоубийством» (дневник Ирины) на родину — судьба бы ее творчества была бы иной.
Кажется, она умело и очень живо отзывается и на современные ей события, они ее глубоко волновали — «Сакко и Ванцетти», «Линдберг и Чемберлен».
«А в тюрьме выводят на расстрел
Самых, лучших, и непримиримых»
(1942 г.)
— Где-то стенанье сирен
В мерзлом, и мутном тумане.
Шум авионов во мгле,
Пушечный дым по земле
И корабли в океане…
— Господи, дай же покой
Всем твоим сгорбленным людям,
Мирно идущим ко сну,
Мерно идущим ко дну,
Вставшим у темных орудий.
(1940 г.)
Это и есть сублимация подлинного гуманизма.
Я выбрал наугад, а ведь это у нее значительная часть творчества. Ник. Ник. не сумел этого ни показать, ни, по-моему, заметить. Сам слишком как-то далек от живой жизни и все его внимание сосредоточено на прошлом и на личном. Это одна из характерных черт его характера — слабого и растерянного человека — не эгоцентризм, а «старческий эгоизм», он был ему свойствен уже с момента нашего знакомства.
В конце концов, у всех нас, людей одинаковой судьбы, конечно, в какой-то мере, жизни загублены; прошли ли они впустую — этого я не знаю. Может быть, в самом поражении — есть внутренняя победа. Одна из любимых тем Хемингуэя (какая нелепая гибель! Если это действительно аксидан?).
Что стоила бы наша жизнь, если бы в итоге всех бедствий, начиная с юности, мы пришли бы не к возвращению на родину, не к участию в строительстве новой жизни, а к какому-нибудь мещанскому эмигрантскому благополучию, как те, кто стали хозяевами либо (…) русских кабаков, со «specialite de la maison», либо гастрономических лавочек, или, что не лучше, свое национальное «первородство», свою принадлежность к русской культуре променяли на nationalite francase или любая другая, превратившись из Сепуржинского в cher Sepour, из Андрея Войцеховского в cher Andre Voy, в порядке — «за чечевичную похлебку».
Вот почему в этой внешней победе людей с «выдающимися подбородками» (в свое время покойный Игорь Платонович Демидов этим людям посвятил ряд умильно-сентиментальных статей в «Последних новостях», а какой-то шутник называл их «людьми с выдающимися челюстями») квадратными челюстями, доплывшими до такого благополучия, я усматриваю «человеческое поражение».
Или, подобно фр. эмиграции, «ничего не поняли бы и ничего не забыли, ничему не научились», окаменели бы в своих предубеждениях и мертвых взглядах давным-давно исчезнувшей среды, когда-то породившей нас; как те эмигрантские зубры, которых ты имеешь возможность лицезреть в Париже.
И жизнь прошла бы мимо нас, и мы прошли бы мимо нее или, вернее, не прошли бы, а «сиднем просидели бы на месте».
И если чем-то и определена наша жизнь, то — мучительным беспокойством, упрямыми поисками верного пути, который и привел нас на родину, где все вещи, в конце концов, более или менее, встали на свои места.
Трагедия заключается в том, что жизнь к этому времени почти прошла и по-настоящему творчески проявить себя — уже нет ни сил, ни времени. Такова судьба и Ладинского. Ведь даже и его книги не более чем переработанные эмигрантские издания: «XV легион», «Голубь над Понтом», «Анна Ярославна» — она, кажется, сдана в печать, тоже была написана там.
***
Я не был и теперь уже не стану
Бойцом упорствующим, и слепым,
Хотя до дней последних не устану
Петь человечность и не верить злым.
Увы, слова прекрасные по сути
Зловещую отбрасывают тень,
Осаживаются, в сознанье мутью,
Туманят мутью будущего день.
Тревожит сердце, что еще немало
И правды приблизительной, и лжи…
За искренность!
За чистое начало!
Я, вопреки всему, оружию не служил.
1960 г.
***
Бутылкой, выброшенною за борт,
Скиталась жизнь моя по океанам,
Внимательный не привлекая взор,
Но полнилась и солнцем, и туманом.
Её щадили бури много раз!
И ветер бедствий гнал её по свету.
Ещё в младенческий далёкий час
Судьба вручила тяжкий дар поэта.
Среди великих бед и певчих слов
Я прожил жизнь.
Как? — С толком иль без толка?..
И на песке у отчих берегов
Она лежит сверкающим осколком.
октябрь, больница, 1961.
***
Трепещут тополя в осенней синеве.
И облака — густые хлопья ваты —
Медлительно идут и тенью по траве
Сбегают вниз по солнечному скату.
Летят над сжатыми полями журавли
И в небе крик протяжный и прощальный.
О чём кричат? — о днях первоначальных,
(здесь вначале было: «что будит сны»).
О жизни, о судьбе, о людях, что ушли?..
больница.
Что будит сны — косноязычно, тупое звучание.
На рыбалке
Медлительное облаков движенье.
В осенней просини несёт река
Мир тишины и зябких отражений,
Заколебавшихся у поплавка.
Взлетев! Резко чертит удочка кривую,
Сверкнув на солнце мокрой чешуёй,
Расплачивается за роковую
Свою ошибку окунь небольшой.
И кто-то, подошедший незаметно,
Приветливо мне «здравствуйте» сказал.
«Как клёв?»
И я,
С приветствием ответным
Ему я место рядом указал.
И выпустил табачный дым сквозь губы,
О рыбной ловле, жизни и судьбе
Беседует с тобою дружелюбно
Ещё вчера совсем чужой тебе.