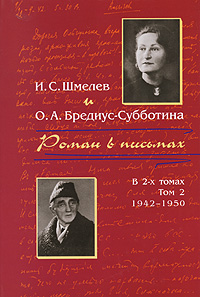что однажды я, идя с почты (отправила тебе), мокрым таким сумеречным вечером, вся в думах о тебе, о солнце, вдруг увидала на дороге куст этих колючек. Не было уже ни одного цветка, ни одной зеленой травки (в прошлую зиму) и только этот куст стоял не померзшим. То был день не холодный, мокрый, весь в тумане. Туман пронизывал все, и с тополей над каналом капал в воду тяжелыми слезами. Ни души по дороге. Ни звука, только это шлепанье капель и мои шаги по асфальту. Встреча с кустом репейника… была именно встречей. И я нагнулась и сорвала его цветки. Они были мокры и свежи, эти ярко-лиловые
нежные кисточки в сухой коричневой чашечке. Они дивно пахли медом и были очень красивы, оторванные от колючего, невидного такого куста. У меня тогда роились мысли… что-то будто напрашивалось (написать…), какие-то сравнения… Но так и осталось в тумане… Но я принесла их домой, более бережно, нежели несла бы розы летом… И вот, как ответ, эта картина… Кто-то еще, м. б. точно то же почувствовал, как и я и… воплотил. Так просто, так очаровательно… Ах, если бы я могла! У меня много мыслей. Мне тебя так недостает. Но я знаю, что ты очень занят. Я не могу тебя отвлекать. И лишь иногда, т. е. почти всегда, кажется, что я никогда, ничего не сделаю… Ты понимаешь, вся эта суетня меня съедает. Я хочу вставать рано, чтобы утром хоть работать. Я должна работать так, чтобы никто об этом не знал. Мне мешает иначе сознание, что они знают. Это м. б. глупо, но это так. Я должна быть совсем _о_д_н_а. М. б. взять мне «отпуск». Но мама измучается. А на прислугу нельзя оставить. Все теперь так сложно. Скоро опять молотьба: горох и овес, остатки, то, что на семена. Из всего Shalkwijk’a только у Арнольда комиссия признала их годными для семян, отвечающими всем требованиям государственной комиссии. Опять эта возня. Я не могу рано вставать: плохо сплю, часам к 3 ночи лишь засыпаю, тревожно и очень чутко. Утром разбита. Сердце меня беспокоит — опять нет воздуха… М. б. малокровие. Все делаю через силу, и нет желания куда-нибудь пойти или что-нибудь предпринять. Сережа зовет к себе, а мне прямо страшно подумать о поездке… Старею? Чудесный твой «Михайлов день»! Все у меня от него в восторге. Несколько раз прочла и маме и С. Ах, все хочу тебя спросить: где же муж твоей племянницы — поэт? Я думала, что отец Ивика — француз? Иначе, почему он Ives? Или она 2 раза замужем? Как жаль, что я не могу получить парижскую газету, — там столько твоего! Ах, если бы не было войны! Ванечек, я не смогу приехать к тебе: не дают виз, ни по каким причинам, личного свойства. Я отклонила возможность, тогда, через друга, а теперь никак нельзя. Не верю, чтобы и ты смог. Очень все трудно, да и беспокойно. Ну, надо терпеть! М. б. недолго будет так. М. б. и сможем еще повидаться. Я, для себя знаю, что, если бы я на что-нибудь была в искусстве способна, то от этой встречи
все зависит. Я должна тебя увидеть. У меня так много вопросов, полу-вопросов, оттенков, о которых невозможно спрашивать письмами. Ты одним словом зажег бы во мне то, что сейчас тянет, не давая ни света, ни тепла… —
Ах, проглотила «Madame Bovary»181… Ужасно быстро прочла, хоть и на голландском… Но не жила. А «Войну и мир» оставила, не могла, вся душа изорвалась, я плакала вроде того, как над «Путями». Какая прелесть, как из сердца, как в каждом сердце должно быть есть, бывает такое… Ах, вот так же, как у тебя у Тоника… Я теперь ни одну твою вещь не могу читать, вот так же: оставляю, оттого что рвется душа. Я должна почти стонать от переполнения чувствами. Оттого, что я живу, живу всем этим, и все же… не могу жить, т. к. я — другое, в другом мире… И это мучительно… Не эти ли чувства будут владеть нашими душами и после смерти, когда вечный Свет будет манить нас, будет отвечать чему-то в нас, и все же, мы грешные не сможем вполне слиться в этом блаженстве со Светом, ибо мы темные. И м. б. оттого и есть так, что кому много дано, с того больше и спросится? Надо понимать, что чем больше у человека искры Божьей, тем сильней его тяга к Свету, и тем ужаснее разъединение с Ним из-за внешних пут, страстей ли, или чего другого, что мешает соединиться. Это думы мои вот в эту минуту, м. б. глупые, — они не продуманы, еще совсем «сырые». Прости, тогда, глупость! — Когда я читаю твое, то захлебываюсь в слезах. Ничего _т_о_ч_н_о_ не пойму. Но это дивно. И еще — я обожаю Родину. И все, что о ней, о Ней — так берет душу. — Мне не понравилась героиня Флобера. Написано прекрасно, мне очень нравится его стиль, хоть, опять-таки — это не оригинал еще. Но она… Нет, непонятна. Т. е. Флобер делает ее нам понятной, «события» развиваются очень последовательно, и психологически она очень выдержана. Но мне непонятно вообще: откуда такой тип женщины? Могут ли и у нас быть такие? Понимаешь, без любви даже к ребенку… Без единого укора совести… И ради чего? Нет, не ради любви, но ради колоссального эгоизма. В конце концов, это только эгоизм. Что должны были иметь в себе ее любовники? Ничего, кроме отвечающей ее вкусу внешности и уменья давать ей наслаждения. Я поняла бы все: и преступления даже, во имя любви, настоящей любви. А тут? Рудольф ли, Леон ли — все равно… Это чередование тоже очень характерно… Впервые в жизни — не почувствовала ни малейшей жалости к ней, уже загнанной жизнью. Читала и думала: «так тебе и надо»! Права я или нет? Ответь! Если бы она хоть кого-нибудь любила! Ведь это не любовь, когда она подыскивает обстановку для того, чтобы быть «счастливой», и даже ее любовник отвечает: «Но зачем же нам роскошь Парижа, — разве мы и здесь несчастливы?» Эта алчность к наслаждению, без всякого внутреннего содержания. У нее нет ничего, что освещает и освящает женщину в любви. И этот несчастный ребенок! Но я все же остаюсь под впечатлением книги. Хочу очень освежить французский и хочу много читать. Напиши же мне отзыв твой о