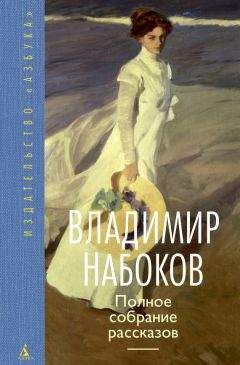мне помог, когда на меня обрушилось несчастье. Он, вероятно, живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом…»
…Спохватился, резко вычеркнул, взял другой лист. Изабель всхлипывала, спрятав лицо в подушку:
– Как же мне быть теперь?.. Он станет мстить мне… О, Господи…
«Мой милый друг, – быстро писал Керн, – она искала незабываемых прикосновений, и вот теперь у нее родится крылатый зверек…» – «А… Чорт!»
Скомкал лист.
– Постарайтесь уснуть, – обратился он через плечо к Изабель. – А завтра уезжайте. В монастырь.
Плечи у нее часто ходили. Затем она утихла.
Керн писал. Перед ним улыбались глаза единственного человека на свете, с которым он мог свободно говорить и молчать. Он ему писал, что жизнь кончена, что он недавно стал чувствовать, как вместо будущего надвигается на него черная стена, – и что вот теперь случилось нечто такое, после чего человек не может и не должен жить. «Завтра в полдень я умру, – писал Керн, – завтра – потому что хочу умереть в полной власти своих сил, при трезвом дневном свете. А сейчас я слишком потрясен».
Докончив, он присел в кресло у окна. Изабель спала, чуть слышно дыша. Тягучая усталость обхватила ему плечи. Сон спустился мягким туманом.
iii
Он проснулся от стука в дверь. Морозная лазурь лилась в окно.
– Войдите, – сказал он, потянувшись.
Лакей беззвучно поставил поднос с чашкой чая на стол, поклонился и вышел.
Керн про себя рассмеялся: «А я‐то в помятом смокинге». И мгновенно вспомнил, что было ночью. Вздрогнув, взглянул на постель. Изабель не было. Верно, ушла под утро к себе. А теперь, конечно, уехала… Бурые, рыхлые крылья на миг померещились ему. Он быстро встал – открыл дверь в коридор.
– Послушайте, – крикнул он удалявшейся спине лакея, – возьмите письмо.
Подошел к столу, пошарил. Лакей ждал в дверях. Керн похлопал себя по всем карманам, посмотрел под кресло.
– Можете идти. Я потом передам швейцару.
Пробор наклонился, мягко прикрылась дверь.
Керну стало досадно, что письмо потеряно. Именно это письмо. В нем он выразил так хорошо, так плавно и просто все, что нужно было. А теперь слова он вспомнить не мог. Всплывали нелепые фразы. Нет, письмо было чудесное.
Он принялся писать заново – и выходило холодно, витиевато. Запечатал. Четко надписал адрес.
Ему стало странно легко на душе. В полдень он застрелится, а ведь человек, решившийся на самоубийство, – Бог.
Сахарный снег сиял в окно. Его потянуло туда – в последний раз.
Тени инистых деревьев лежали на снегу, как синие перья. Где‐то густо и сладко звенели бубенцы. Народу высыпало много: барышни в шерстяных шапочках, двигающиеся на лыжах пугливо и неловко, молодые люди, которые звучно перекликались, выдыхая облака хохота, и пожилые люди, багровые от напряжения, – и какой‐то сухой синеглазый старичок, волочивший за собой бархатные саночки. Керн мимолетно подумал: не хватить ли старичка по лицу, наотмашь, так, просто… Теперь ведь все позволено… Рассмеялся… Давно он не чувствовал себя так хорошо.
Все тянулись к тому месту, где началось лыжное состязание. Это был высокий крутой скат, переходивший посередине в снеговую площадку, которая отчетливо обрывалась, образуя прямоугольный уступ. Лыжник, скользнув по крутизне, пролетел с уступа в лазурный воздух; летел, раскинув руки, и, стоймя опустившись на продолженье ската, скользил дальше. Швед только что побил свой же последний рекорд и далеко внизу, в вихре серебристой пыли круто завернул, выставив согнутую ногу.
Прокатили еще двое в черных свэтерах, прыгнули, упруго стукнули о снег.
– Сейчас пролетит Изабель, – сказал тихий голос у плеча Керна.
Керн быстро подумал: «Неужели она еще здесь… Как она может…» – посмотрел на говорившего. Это был Монфиори. В котелке, надвинутом на оттопыренные уши, в черном пальтишке с полосками блеклого бархата на воротнике, – он смешно отличался от шерстяной легкой толпы. «Не рассказать ли ему?» – подумал Керн.
С отвращеньем оттолкнул бурые пахучие крылья: «Не надо думать об этом».
Изабель поднималась на холм. Обернулась, говоря что‐то спутнику своему – весело, весело, как всегда. Жутко стало Керну от этой веселости. Показалось ему, что над снегами, над стеклянной гостиницей, над игрушечными людьми – мелькнуло что‐то – содроганье, отблеск…
– Как вы сегодня поживаете? – спросил Монфиори, потирая мертвые свои ручки.
Одновременно кругом зазвенели голоса:
– Изабель! Летучая Изабель!
Керн вскинул голову. Она стремительно неслась по крутому скату. Мгновенье – и он увидел: яркое лицо, блеск на ресницах. С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе – распятая. А затем…
Никто, конечно, не мог ожидать этого. Изабель на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала, покатилась, колеся лыжами в снежных всплесках.
Сразу скрыли ее из виду спины шарахнувшихся к ней людей. Керн, подняв плечи, медленно подошел. Ясно, как будто крупным почерком написанное, встало перед ним: месть, удар крыла.
Швед и длинный господин в роговых очках наклонялись над Изабель. Господин в очках профессиональными движениями ощупывал неподвижное тело. Бормотал:
– Не понимаю… Грудная клетка проломана…
Приподнял ей голову. Мелькнуло мертвое, словно оголенное лицо.
Керн повернулся, хрустнув каблуком, – и крепко зашагал по направлению к гостинице. Рядом с ним семенил Монфиори, забегал вперед, заглядывал ему в глаза.
– Я сейчас иду к себе наверх, – сказал Керн, стараясь проглотить, сдержать рыдающий смех. – Наверх… Если вы хотите пойти со мной…
Смех подступил к горлу, заклокотал. Керн, как слепой, поднимался по лестнице. Монфиори поддерживал его робко и торопливо.
Окно пришлось захлопнуть: дождь, ударяясь о подоконник, брызгал на паркет, на кресло. По саду, по зелени, по оранжевому песку, свежо и скользко шумя, неслись громадные серебряные призраки. Гремела и захлебывалась водопроводная труба. Ты играла Баха. Рояль поднял лаковое крыло, под крылом плашмя лежала лира, по струнам перебирали молоточки. С хвоста рояля парчовый ковер сполз грубыми складками, уронив на паркет распахнувшийся опус. Иногда сквозь волнение фуги кольцо звякало о клавиши, – и беспрерывно и великолепно в стекла хлестал июльский ливень. И, не прерывая игры и слегка нагнув голову, ты восклицала в такт – поневоле певуче:
– Дождь, дождь… Я его за-глу-шаю!..
Но заглушить ты его не могла.
Оторвавшись от альбомов, бархатными гробами лежавших на столе, я смотрел на тебя, слушал фугу, дождь, – и росло во мне чувство свежее, как запах мокрых гвоздик, что стекал отовсюду: с полок, с крыла рояля, с продолговатых алмазов люстры. То было чувство какого‐то восторженного равновесия: я чувствовал музыкальную связь между серебряными призраками дождя и твоими покатыми плечами, вздрагивающими, когда ты вдавливала пальцы в зыбкий лоск. И когда я углублялся в себя, весь мир показался мне