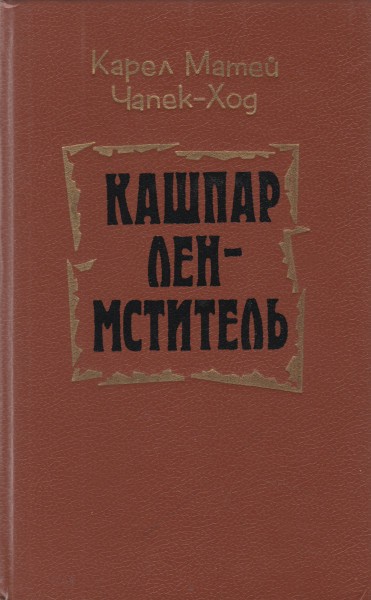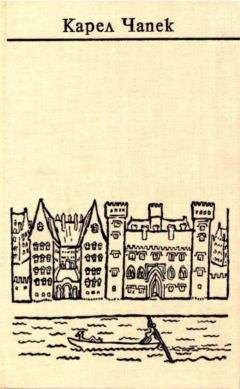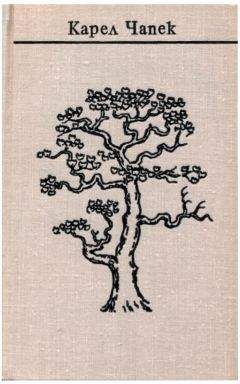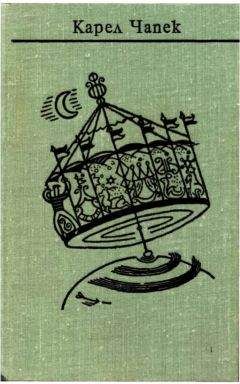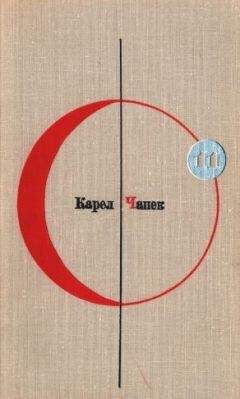в туман по линии, проведенной тенью совершенно прямого столба, несущего таблицу с каким-то предостережением, галлюцинация повторилась: ему снова привиделась лысина пана Конопика, но на этот раз на ней была черная точка — знак, вонзенный взглядом его горящих глаз. И тут мороз пробежал у него по коже, Лен почувствовал, что рука судьбы схватила его; спрятав подбородок в воротник тесного пиджачка, он припустил вперед. Сзади слышались шаги грузчика, несущего с парома посуду — в корзине на его спине тихонько позвякивали тарелки. Фонарь на козлах освещал нос новехонького парома; под ним, на глади недвижной воды, синеватой у берега, крутились веретена тумана. Из них соткался большой парус, несомый над рекой почти неощутимым ветерком.
Сердце у Лена сильно забилось, когда он за порогом плотины увидел лежащие на воде плоты, тесно примыкающие один к другому, до самой середины реки; не будь их, пришлось бы ему остаток ночи провести на ногах. Правда, у ворот плотины густо торчали белые колья, запирающие калитку, которую сторож откроет сегодня перед полуднем. Ночь и все утро мелют мельницы, а потом открывается навигация, и Лен после двух бессонных ночей сможет спать часов до десяти.
Клонимый ко сну, он свернул направо в улочку, вышел на маленькую, с пятачок, площадь, которую словно готовились проглотить большие, распахнутые настежь ворота, ведущие во двор значительно больших размеров, чем площадь.
Сразу по левую руку от ворот — шумный трактир; в ранние часы там всегда бывало оживленнее, чем вечером. Из прихожей через открытую дверь виднелись угловатые фигуры мужиков в куртках и суконных шапках, играющих на огромном бильярде. Возле самой завалинки, на большой, с верхом нагруженной овощами тачке, похрапывал долговязый зеленщик. Поодаль, в глубине темного двора, стояло еще несколько таких тачек; хозяева их, подремывая, сторожили свое добро. На груде бревен сидели бабы, положив головы на белые корзины. У кого-то в кастрюле с супом звякала ложка.
Лен направился в глубь двора и исчез за сараем. Стены его, свежевыбеленные, были крест-накрест обиты штакетником. В одном из квадратов, образуемых досками, была дверца. Лен просунул руку в щель и отодвинул засовчик изнутри. Когда ворота плотины были открыты, дверца запиралась на висячий замок. Внутри сарая, на куче чего-то мелкого, занимающего все пространство сарая и поднимающегося к задней стене, лежали вповалку, покойно и недвижно, как плоты на реке, рослые плотовщики.
Когда Лен вошел, один из них шевельнулся и приподнял голову. Судя по тому, с какой легкостью пришелец обнаружил засовчик и открыл его, разбуженный ночлежник, конечно, сразу понял, что человек этот здесь не впервые. С такими обходятся тут по-свойски.
— Ты чистый? — спросила голова, если не шепотом, то все же очень низким и глухим голосом, дабы никто не проснулся.
— Конечно, дурень. Я же прямехонько со службы, — ответил Лен таким же приглушенным голосом, из опаски разбудить окружающих, иначе, он знал, ему не сдобровать.
— Ну, коли вшей нет, располагайся! — предложил гостеприимный хозяин. — А то, сам знаешь, тут живо ребра пересчитают!
Лен как подкошенный рухнул на свободное местечко между спящими. Ноздри его с блаженством вдыхали древесный запах, наполняющий сарай. Куча, служившая общей постелью, была древесным корьём; его уже обработали в дубильной мастерской на дворе и теперь просушивали к зиме на топливо. До службы Лен частенько ночевал здесь. И его радовало, что все тут ему привычно.
Лен поглубже зарылся в сыпучее «одеяло» и впал в забытье. Только было угомонились в голове зудящие мысли, как ему показалось, будто снова кто-то вместо приветствия гаркнул:
— Ты чистый?
Между тем никто не издал ни звука. Все спали как убитые.
«Отчего же мне не быть чистым? Чист я и после встречи с Маржкой...»
Утомленный мозг был уже не в состоянии еще раз представить себе все, что он узнал от нее за долгие два часа. Бремя ужаса, которое она на него взвалила, казалось неподъемным, и теперь, мысленно ощупывая его, он так и чувствовал жестокие уколы игл, которыми оно было нашпиговано.
Но довольно об этом! Лену удалось отключиться. Он глубоко вздохнул — вернулось спокойное, ровное дыхание засыпающего.
А как она к нему ластилась, кончив долгую исповедь! Ее светло-голубые глаза, из которых вылились ручьи слез, горели жарким огнем, и Лен вдруг понял, почему он сразу не узнал их: веки у Маржки были жирно подведены тушью. От ее взгляда его обдало жаром и холодом. Словно и не было растрепавшейся прически, и на голове у нее снова шапочка с помпончиками, из-под которой торчит хвостик темно-русых и светлых волос, а на обнаженной руке, согнутой в локте — кошелка с обедом.
...Вот она прыгает к нему на колени, обнимает его за шею, прижмурив светлые глазки, и личико ее так близко к его лицу, а губы к губам, что он ясно видит на ее щеках и свежие ручейки слез, и брызги из лужи, в которую она вывалила отцовский обед...
Лен вскинулся и сел на куче корья. От возбуждения кровь с шумом пульсировала в голове.
И тут же он вспомнил, где находится. Через резкие черные жерди стал просачиваться густой, как сметана, туман. В глазах у Лена замелькали белые шесты, подпирающие ворота плотины, потом бильярдные кии, стоявшие в подставке у стены трактира.
Он быстро улегся и сразу же забылся крепким, глубоким, похожим на обморок, сном.
На другой день, в полдень, Лен стоял под лесами строящегося дома пана Конопика.
Все имущество — связанные вместе миску, мастерок, молоток и отвес — он положил между носками шнурованных казенных ботинок, прислонился к сырой стене и стал ждать часу дня.
— Да будь вас хоть двадцать, я всех бы принял, — сказал ему мастер. — Работа бы шла на всех стенах. А то приходится их класть вкруговую, как чулок вязать. Можете оставаться и начинать сразу же после обеда. Становитесь к дымовым трубам, будете в паре с одним старичком, каменщик он что надо, только силенок маловато...
— Благодарствую, пан мастер!
Лен отошел к лесам. Тоскливо и страшно стало ему...
Солнце светило так ярко, что венок из жестяных листьев, деревянных лимонов и апельсинов, висевший напротив, над входом в лавку пана Конопика, отбрасывал на запыленное стекло двери тень, хорошо заметную отсюда, со стройки. Золотые буквы на вывеске сверкали.
Где угодно, только не