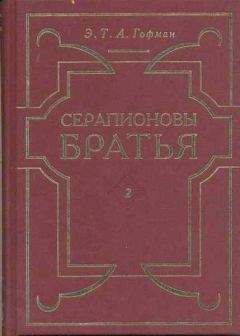и Конрад, а все же я каждого из них найду в чем упрекнуть». Да, право, милая Роза, когда смотрю я, как славно работают молодые подмастерья, всегда вспоминается мне мой милый, бедный Валентин, и тут уж я скажу, что, может быть, работал он и хуже, да во всем, что он делал, было что-то совсем другое, какая-то другая сноровка. Видно было, что он всей душой отдается работе, а когда гляжу на молодых наших подмастерьев, мне всегда чудится, что они только притворяются и что на уме у них совсем другие вещи, а не работа, как будто она для них только бремя, которое они добровольно взвалили на себя и несут теперь смело и бодро. С Фридрихом мне легче всего ужиться — у него такой честный, добрый нрав. Он как будто всего ближе к нам, все его слова я понимаю, а то, что он так безмолвно любит, точно робкий ребенок, что он едва осмеливается смотреть на тебя, что он краснеет, едва только ты слово скажешь ему, это-то мне и любо в милом юноше.
На глазах у Розы как будто навернулись слезы, когда Марта произнесла эти слова. Она встала и молвила, повернувшись к окну:
— Фридрих мне тоже очень нравится, да только и о Рейнхольде худого не говорите.
— Да как же это можно? — ответила Марта. — Рейнхольд, разумеется, из них самый красивый. Что за глаза! Нет, уж если он пронзит кого своим сверкающим взглядом, так этого просто не вынести! А все же есть в нем что-то такое необыкновенное, что отпугивает меня от него, нагоняет на меня страх. Я думаю, господин Мартин, когда Рейнхольд работает у него в мастерской и он ему велит принести то, другое, должен чувствовать то же самое, что чувствовала бы и я, если б кто-нибудь принес мне на кухню сосуд, сверкающий золотом и драгоценными каменьями, и мне пришлось бы употреблять его вместо простой, обыкновенной утвари, а я бы даже и притронуться к нему не смела. Начнет он рассказывать — и говорит и говорит, и звучит его речь, словно нежная музыка, и уж совсем увлекает тебя, но если потом хорошенько подумать, что он сказал, то и выходит, что в конце концов я и словечка не поняла. А если иногда и он пошутит по-нашему и я уже подумаю, что вот он такой же, как и мы, вдруг он посмотрит, совсем как знатный господин, и мне прямо страшно делается. И ведь совсем нельзя сказать, чтобы по виду и по своим повадкам он был похож на разных надутых дворянчиков, всяких рыцарей, нет, тут совсем другое. Словом, мне кажется, бог весть почему, будто он водится с высшими духами, будто он — из другого мира. Конрад — дикий, надменный парень, и есть в нем что-то такое важное-преважное, не подстать кожаному переднику. И держит он себя так, словно только он один и может повелевать, а другие должны его слушаться. Ведь за короткое время добился он здесь того, что мастер Мартин, когда Конрад заорет своим оглушительным голосом, покоряется ему. Но Конрад все же такой добродушный и правдивый, что на него совсем нельзя сердиться. Я уж скорей скажу, что он, хотя и дикого нрава, а мне чуть ли не милее Рейнхольда; правда, и он порой говорит больно высокие речи, но его всегда хорошо понимаешь. Я об заклад биться готова, что он, как бы он ни прикидывался, был прежде военным человеком. Потому он так хорошо владеет оружием да и перенял кое-что рыцарское, а это ему недурно идет. Ну, так скажите же мне прямо, милая Роза, который из трех подмастерьев нравится вам больше всего?
— Не спрашивайте меня, — отвечала Роза, — не спрашивайте меня о таких вещах, милая Марта. Вот только одно я и знаю: Рейнхольд для меня совсем не то, что для вас. Правда, он вовсе не похож на своих товарищей, а когда он говорит, мне кажется, будто передо мной вдруг появился прекрасный сад, полный чудесных, блестящих цветов и плодов, каких не бывает на земле, но мне нравится смотреть на этот сад. С тех пор как Рейнхольд здесь, многие вещи кажутся мне совсем иными, а то, что туманно и смутно таилось у меня в душе, теперь стало так светло и ясно, что я отчетливо могу это распознать.
Марта встала и, уходя, погрозила Розе пальцем и сказала:
— Ну что ж, Роза, значит, Рейнхольд будет вашим избранникам? Этого я не ожидала, об этом не догадывалась!
— Прошу вас, — ответила Роза, провожая ее до дверей, — прошу вас, милая Марта, ничего не ожидайте, ни о чем не догадывайтесь, а пусть все это решает будущее! Что бы оно ни принесло с собой, это будет веленье божье, которому всякий должен кротко и смиренно повиноваться.
Между тем в мастерской мастера Мартина наступило большое оживление. Чтобы успеть исполнить все заказы, он взял к себе еще несколько работников и учеников, и теперь раздавался такой стук и гром, что далеко было слышно. Рейнхольд размерил большую бочку, которую делали для епископа Бамбергского, и так удачно вместе с Фридрихом и Конрадом сколотил ее, что у мастера Мартина сердце радовалось, и он несколько раз воскликнул:
— Вот это работа, вот это будет бочечка, какой у меня еще не было, если не считать моей двухфудерной!
Теперь все три подмастерья стояли и набивали обручи на прилаженные доски, так что стук колотушек наполнял всю мастерскую. Старик Валентин усердно стругал долотом доски, Марта, с двумя мальчиками на коленях, сидела позади Конрада, а остальные мальчишки с шумом и криком резвились, играя обручами и гоняясь друг за другом. Веселая была суматоха, так что никто не заметил старого господина Иоганна Гольцшуэра, вошедшего в мастерскую. Мастер Мартин пошел к нему навстречу и учтиво спросил, что ему угодно.
— Да вот, — ответил Гольцшуэр, — захотелось мне повидать моего милого Фридриха, который так примерно там работает. А потом, дорогой мастер Мартин, нужна для моего погреба хорошая бочка, которую я и хотел вам заказать. Да смотрите-ка, вон там делают как раз такую бочку, какая мне нужна. Ведь вы можете уступить мне ее? Скажите только цену.
Рейнхольд, который, устав от работы, отдыхал несколько минут, а теперь опять собирался подняться на помост, услышал слова Гольцшуэра и, повернув к нему голову, сказал:
— Ну, дорогой господин Гольцшуэр, о нашей бочечке вы лучше и не думайте, ее мы делаем для высокопочтенного господина епископа Бамбергского!
Мастер Мартин, заложив руки за спину,