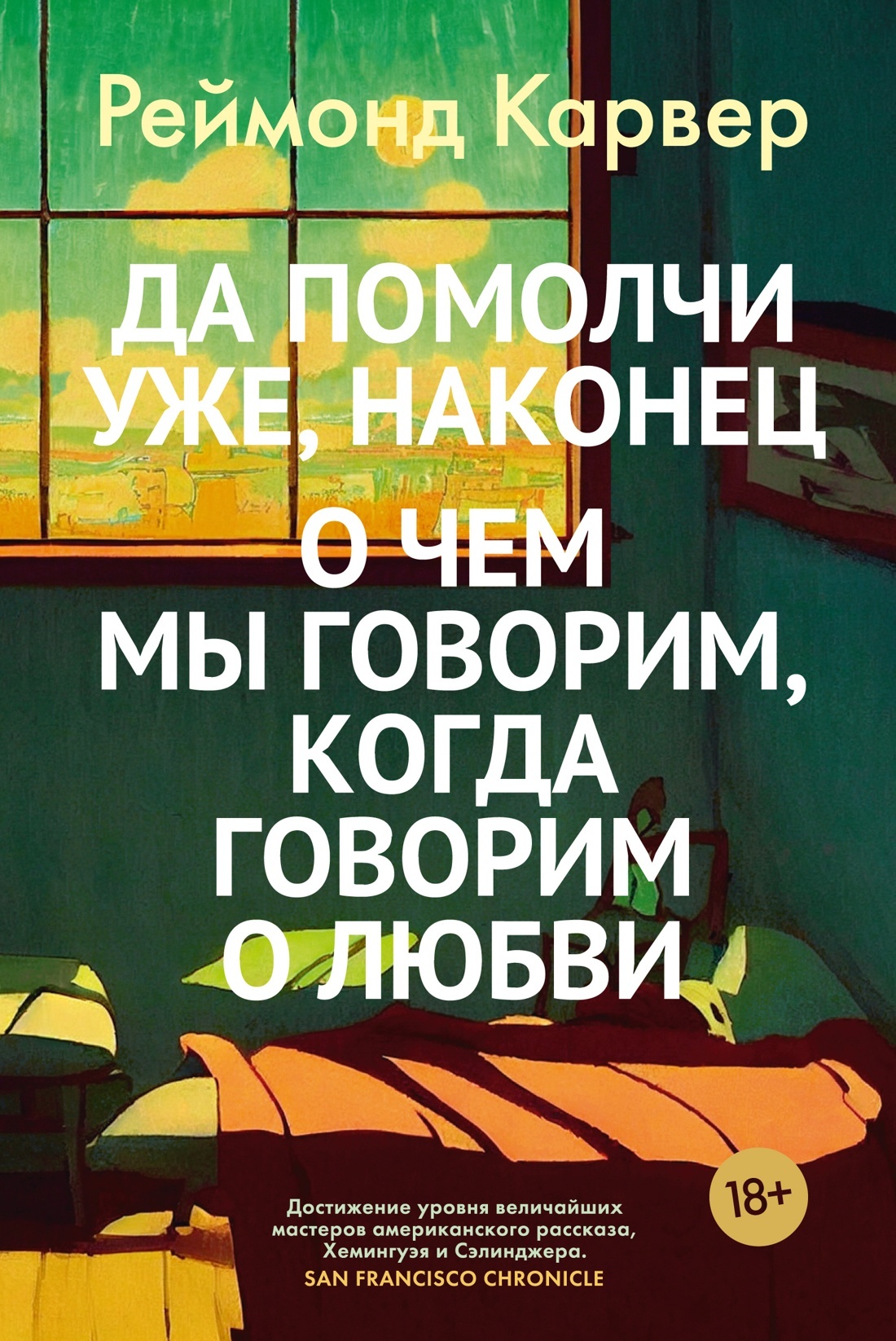участке Ли Уэйта у реки Топпениш ниже моста, на Кауич-роуд. Джозеф Орел напомнил Ли Уэйту, что это уже третий или четвертый раз за зиму. Джозеф Орел, старый индеец, жил на государственном участке около Кауич-роуд, с радиоприемником, который он слушал днем и ночью, и с телефоном – на случай, если заболеет. Ли Уэйту хотелось бы, чтобы старик-индеец не приставал к нему с этим участком, сам бы что-нибудь сделал, если желает, – вместо того, чтобы звонить.
На террасе Ли Уэйт, отставив ногу, вытащил застрявшее в зубах волокно мяса. Ли был худой, невысокий, с худым лицом и длинными черными волосами. Если бы не звонок, он прикорнул бы после обеда. Хмурясь, он неохотно натянул пальто; их уже не будет там, когда он приедет. Обычно так бывало. Охотники из Топпениша и округа Якима могли ездить по дорогам резервации сколько угодно; только охотиться было запрещено. Но они прокатятся по его соблазнительным безлюдным шестидесяти акрам раз, другой, третий, осмелеют, поставят машину под деревьями в стороне от дороги и по колено в ячмене и овсюге побегут к речке – может быть, настреляют уток, может быть, нет, но постреляют от души, правда наспех – поскорее смыться. Инвалид Джозеф Орел, сидя в своем доме, видел их много раз. Так, по крайней мере, он говорил Ли Уэйту.
Ли облизал зубы и прищурясь поглядел в зимний сумрак. Он не боится; не в этом дело, сказал он себе. Просто не хотелось связываться.
На террасе, маленькой, пристроенной перед самой войной, было почти темно. Стекло в единственном окне разбилось еще несколько лет назад, и Уэйт забил окно мешковиной. Закоржавевшая, она висела рядом со шкафом и слегка шевелилась от холодного ветра, задувавшего в щели. На стенах висели старые хомуты и сбруи, а с одной стороны, над окном – рядок ржавых инструментов. Он в последний раз облизнул зубы, подвинтил лампочку в потолочном патроне и открыл шкаф. Вынул старую двустволку и с верхней полки взял горсть патронов. Латунные донца холодили руку, и он покатал их в ладонях перед тем, как сунуть в карман своего старого пальто.
– Пап, ты не будешь сейчас заряжать? – спросил у него за спиной мальчик Бенни.
Уэйт обернулся – Бенни и маленький Джек стояли в дверях кухни. После звонка они все время были рядом – хотели узнать, застрелит ли он кого-нибудь в этот раз. Он огорчился, что дети разговаривают так, как будто им бы это понравилось; они стояли в двери, напустили холода в дом, смотрели на большое ружье у него подмышкой.
– Ну-ка, живо в дом, черт возьми, – сказал он.
Не закрыв дверь, они вбежали в гостиную, где сидели мать и Нина, и оттуда в спальню. Нина за столом пыталась скормить младенцу фруктовое пюре, а он отворачивался и мотал головой. Нина посмотрела на Уэйта, попыталась улыбнуться.
Уэйт вошел в кухню, закрыл дверь и прислонился к ней. Заметно было, что Нина устала. Над верхней губой у нее собрались капельки пота, и она прервала кормление, чтобы отодвинуть волосы со лба. Снова посмотрела на него, потом на ребенка. С прежними детьми у нее не было таких сложностей. Иной раз она не могла усидеть на месте – вскакивала, расхаживала по дому, даже если не было дел – разве что-нибудь приготовить или подшить.
Он потрогал дряблую кожу под подбородком и украдкой взглянул на мать, дремавшую после обеда на стуле перед камином. Она скосилась на него и кивнула. Ей было семьдесят, сморщенная, но волосы, как вороново крыло, висели перед грудью двумя длинными тугими косами. Ли Уэйт был уверен, что у нее непорядок с головой: бывало, два дня она не проронит ни слова, только сидит у окна в другой комнате и смотрит на долину. Его пробирали мурашки от этого, он не понимал, что означают ее мелкие знаки и сигналы, ее молчания.
– Что ты все молчишь? – спросил он, качая головой. – Мама, как я пойму тебя, если ты не говоришь?
С минуту Уэйт смотрел на нее, смотрел, как теребит она кончики кос, ждал, что она заговорит. Потом буркнул, прошел перед ней, взял шапку с гвоздя и вышел.
Было холодно. Все укрыл зернистый снег трехдневной давности, земля сделалась бугристой, и ряды голых шестов для фасоли перед домом выглядели глупо. Собака, услышав стук двери, выползла из-под дома и, не оглядываясь, побежала к пикапу.
– Сюда иди! – крикнул Уэйт; голос его прозвучал глухо в морозном воздухе.
Он нагнулся и обнял ладонью холодный сухой собачий нос.
– В этот раз посиди-ка дома, – сказал он. – Да, да.
Он потрепал собаку по уху и обернулся. Холмов Стейтес-Хиллс за долиной не было видно из-за низкой облачности, а видна только волнистая равнина со свекловичными полями, белая с черными прогалинами, куда не лег снег. И лишь один дом вдалеке – Чарли Тредуэлла; но окна в нем не светились. Ни звука кругом, только низкий потолок туч, давивший на все. Он думал, что будет ветер, но и ветра не было.
– Сиди здесь. Слышишь?
Он пошел к пикапу, преодолевая неохоту. Ночью у него опять был сон – о чем, он не мог вспомнить, но неприятный осадок от него остался. На первой передаче он доехал до ворот, вылез, отпер их, проехал, снова вылез и запер. Лошадей он больше не держал, но привычка запирать ворота так и осталась.
По дороге навстречу ему ехал грейдер, нож его скрежетал всякий раз, наехав на смерзшуюся щебенку. Он не спешил и несколько минут стоял, дожидаясь, когда грейдер подъедет. Один из мужчин в кабине высунулся с сигаретой в руке, помахал ему, и они поехали дальше. Но Уэйт на них не смотрел. Когда они проехали, он вырулил на дорогу. Проезжая мимо Тредуэлла, посмотрел на дом, но света в окнах по-прежнему не было; не было и машины на дворе. Он вспомнил, что несколько дней назад Чарли Тредуэлл рассказал ему о своей воскресной ссоре с каким-то парнем, который днем перелез через его забор и стрелял по уткам в пруду, прямо за коровником. Утки прилетают ко мне каждый день, сказал Чарли. Утки доверяют ему, сказал он – как будто это было важно. Он бросил дойку, выбежал из коровника, закричал, замахал руками, а парень навел ружье на него. Если бы я мог отобрать у него ружье, сказал Чарли, уставясь на Уэйта единственным глазом и медленно кивая. Уэйт чуть выпрямился за рулем. Он не искал неприятностей. Надеялся, что, как и в прошлые разы, никого там не застанет.
Слева остался Форт-Симко – за восстановленным палисадом стояли старые беленые дома. Ворота были открыты, за ними были припаркованы несколько машин и прогуливались люди в