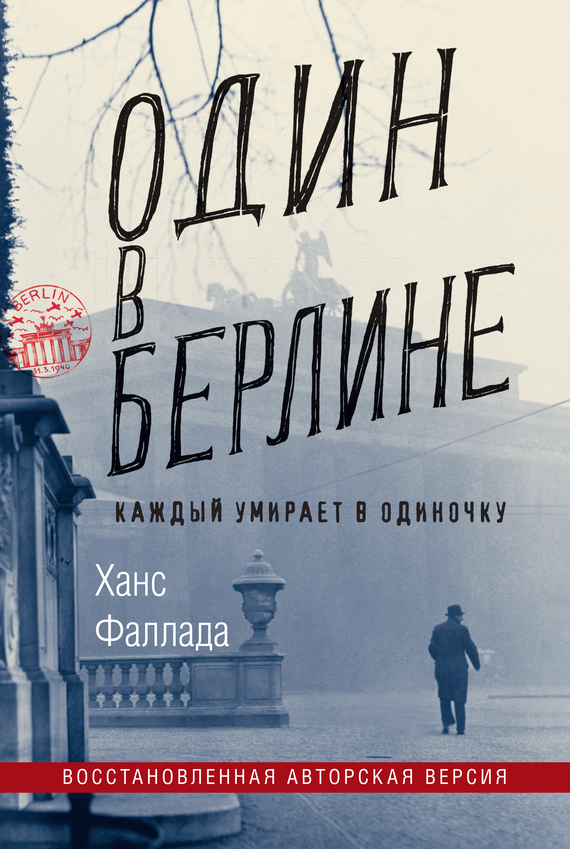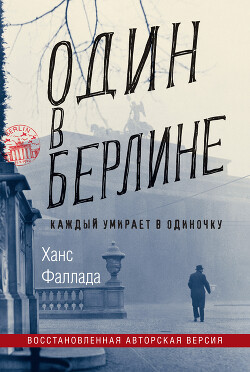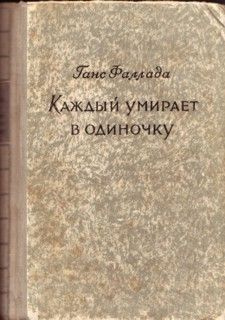Может, все-таки лучше подождать до последней минуты? Может, удастся еще раз увидеть Анну? Разве не правильнее вконец опозорить эту шайку?
Пусть они его казнят, так будет лучше, намного лучше! Он хотел узнать, каково это, — ему казалось, будто так надо, будто он обязан узнать и как они это делают. Думал, что успеет все узнать, прежде чем петля затянется на шее или голова окажется под ножом гильотины. Ведь в самую последнюю минуту он еще сумеет подложить им свинью.
И в уверенности, что с ним уже ничего не случится, что здесь — пожалуй, впервые в жизни — он может полностью быть самим собой, без притворства, в этой уверенности он черпал покой, радость, умиротворение. Его стареющее тело никогда не чувствовало себя так хорошо, как в эти недели. Жесткие птичьи глаза никогда не смотрели так дружелюбно, как в одиночке Плётцензее. Дух его никогда не носился так свободно, как здесь.
Хорошая жизнь, хорошая!
Надо надеяться, с Анной тоже все хорошо. Старый советник Фромм из тех, кто держит свое слово. Анна, наверно, тоже избавлена от всех гонений, Анна тоже свободна, свободна в плену…
Глава 68
Прошения о помиловании
Отто Квангель уже несколько дней сидел в темном карцере — согласно решению Народного трибунала, — ужасно мерз в крохотной клетке из железных прутьев, больше всего похожей на тесный обезьянник в зоопарке, как вдруг дверь открылась, зажегся свет, и в дверном проеме камеры, в которой была установлена железная клетка, появился адвокат, доктор Штарк, посмотрел на своего подзащитного.
Квангель медленно встал и в свою очередь посмотрел на него.
Ишь, этот лощеный господин с розовыми ногтями и небрежной, тягучей манерой говорить пришел к нему еще раз. Вероятно, чтобы посмотреть на мучения преступника.
Но во рту у Квангеля уже была ампула с цианистым калием, талисман, позволявший ему выносить холод и голод, и он, оборванный, дрожащий, голодный, смотрел на «барина» спокойно, с веселым превосходством.
— Ну? — в конце концов спросил Квангель.
— Я принес вам приговор, — сказал адвокат, вытаскивая из портфеля бумагу.
Но Квангель ее не взял.
— Приговор меня не интересует. Я же знаю, меня ждет смертная казнь. И мою жену тоже?
— Вашу жену тоже. Приговор обжалованию не подлежит.
— Ладно, — ответил он.
— Но вы можете подать прошение о помиловании, — сказал адвокат.
— Фюреру?
— Да, фюреру.
— Нет, спасибо.
— Значит, хотите умереть?
Квангель улыбнулся.
— Вам не страшно?
Квангель улыбнулся.
Адвокат впервые с легким интересом посмотрел в лицо подзащитному, сказал:
— Тогда я подам прошение о помиловании вместо вас.
— После того как потребовали смертного приговора!
— Так положено, при каждом смертном приговоре подается прошение о помиловании. Это относится к моим обязанностям.
— К вашим обязанностям. Понимаю. Как и защита. Ну что ж, полагаю, ваше прошение мало что даст, лучше и не подавать.
— Тем не менее я его подам, даже против вашей воли.
— Я не могу вам препятствовать.
Квангель снова сел на нары. Ждал, когда посетитель прекратит эту дурацкую болтовню и уйдет.
Но адвокат не уходил, довольно долго молчал, потом спросил:
— Скажите, зачем вы, собственно, это делали?
— Что делал? — равнодушно спросил Квангель, не глядя на лощеного барина.
— Писали открытки. Ведь проку от них не было, и вы заплатите за них жизнью.
— Затем что я глупец. Затем что ничего лучше мне в голову не пришло. Затем что я рассчитывал на другой результат. Вот зачем!
— И вы не сожалеете? Вам не жаль расстаться с жизнью из-за такой глупости?
Острый взгляд резанул адвоката, давний гордый, жесткий птичий взгляд.
— По крайней мере, я остался порядочным. Не стал соучастником.
Адвокат долго смотрел на умолкшего узника. Потом сказал:
— Теперь я все-таки думаю, что мой коллега, защищавший вашу жену, прав: вы оба безумцы.
— По-вашему, безумие — заплатить любую цену за то, чтобы остаться порядочным?
— Вы могли бы остаться порядочным и без открыток.
— Это было бы молчаливое согласие. Чем вы заплатили за то, что стали таким барином в тщательно отглаженных брюках, с лакированными ногтями и лживыми защитительными речами? Чем вы заплатили за это?
Адвокат молчал.
— Вот видите! — сказал Квангель. — И вы будете платить за это все больше, а однажды, может, и головой заплатите, как я, только за непорядочность!
Адвокат по-прежнему молчал.
Квангель встал, засмеялся:
— Вот видите. Вы прекрасно знаете, что тот, кто за решетками, порядочный человек, а вы, снаружи, — подлец, что преступник на свободе, а порядочный приговорен к смерти. Вы не адвокат, не без причины я назвал вас нерадивым. И именно вы намерены подать за меня прошение о помиловании — ах, идите отсюда!
— И все-таки я подам прошение о помиловании, — сказал адвокат.
Квангель не ответил.
— Что ж, до свидания! — сказал адвокат.
— Вряд ли… или вы намерены присутствовать на моей казни? Приглашаю!
Адвокат ушел.
Он был черствый, ожесточившийся, дурной человек. Но ему все же хватило ума признать, что тот, другой, лучше его.
Прошение о помиловании было подано, мотивированное безумием, что должно было смягчить фюрера, но адвокат хорошо знал, что его подзащитный вовсе не безумец.
От имени Анны Квангель тоже подали прошение о помиловании непосредственно фюреру, но пришло это прошение не из города Берлина, а из маленькой, нищей бранденбургской деревни, и подписала его семья Хефке.
Родители Анны Квангель получили письмо от невестки, от жены сына, Ульриха. В письме были только плохие вести, изложенные беспощадно, короткими жесткими фразами. Сын Ульрих сошел с ума и сидит в Виттенау, а виноваты во всем Отто и Анна Квангель. Их обоих приговорили к смерти, потому что они изменили стране и ее фюреру. Вот ваши дети, стыд и срам носить фамилию Хефке!
Не говоря ни слова, не смея глянуть друг на друга, старики сидели в своей маленькой, бедной комнате. Между ними на столе лежало письмо с роковыми вестями. Но они и на письмо глянуть не смели.
Всю жизнь они покорно склоняли голову, жалкие сельхозрабочие в большом хозяйстве с суровыми управляющими, жизнь они прожили суровую: много работы, мало радости. Радостью были дети, выросшие порядочными людьми. И достигли большего, чем родители, им не приходилось этак надрываться, Ульриху, старшему рабочему на оптической фабрике, и Анне, жене мастера-столяра. Что пишут они очень редко и не приезжают, старикам совсем не мешало, так уж обстоит со всеми птенцами, ставшими на