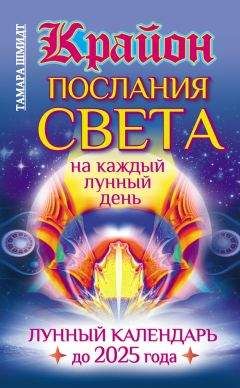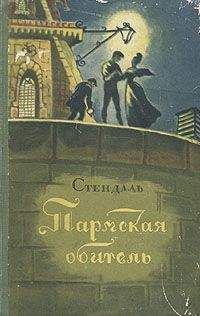[1] Сен-Симон, маркиз де Сен-Филипп, Записки маршала де... [2] "Moniteiir" от 18 июня 1808 года. [3] См. речь герцога Инфантадо в "Moniteur" от 18 июня. Кастильским героям, предкам г-на герцога, нелегко было бы узнать себя в ней... [4] Сущность этой лжеморали, плода папизма, превосходно разъяснена в XVI томе истории Италии г-на де Сисмонди. [5] "Moniteur" от 22 июня 1808 года. [6] Деспотизм, умеряемый аристократией, слагающейся из дворянства и духовенства, иными словами - три силы, объединенные против гражданина, занятого полезным производительным трудом, и наперебой его обирающие. [7] Победить или умереть, за родину и за Фердинанда VII. [8] "Записки" Рокка, стр. 190.
ГЛАВА XLII
Наполеон возвратился в Париж, но вскоре ему пришлось снова отправиться в Испанию. Мы, по обыкновению, не будем излагать общей истории этой войны, ибо для этого пришлось бы коснуться множества подробностей. У ворот Мадрида Наполеон произвел несколько смотров. Как обычно, вокруг него собралась огромная толпа, а один раз он даже очутился посреди большого отряда пленных испанцев. Лица этих фанатиков, побежденных, оборванных, сожженных солнцем, были ужасны. Г-н де Сен-Симон, испанский гранд, бывший член Учредительного собрания, сражался в Мадриде против французов. По отношению к французам, обращавшим оружие против своего отечества, Наполеон придерживался весьма определенной политики. Г-н де Сен-Симон был схвачен и приговорен военным судом к смерти. Император не мог питать вражду к человеку, которого он не знал лично и который не принадлежал к числу опасных людей. Он обрек его на гибель по соображениям чисто политическим. У г-на де Сен-Симона была дочь, которая нежной своей заботливостью скрашивала ему изгнание и облегчала бремя старости. Опасность, угрожавшая отцу, побудила ее пасть к ногам Наполеона. Все уже было приготовлено для казни; преданность любящей дочери взяла верх над решением, казалось бы, бесповоротным, ибо в основе его лежали не страсти, а рассудок и память о событиях под Сен-Жан-д'Акр. Этому прекрасному акту милосердия содействовал начальник главного штаба, а также генералы Себастьяни и Лобардьер. Вся армия считала, что война с Испанией - неправое дело. В то время она еще не была ожесточена многочисленными проявлениями вероломства[1]. После оставления Опорто, в 1809 году, многочисленные раненые французского госпиталя были перебиты ужасающим образом. Также и в Конмбре несколько тысяч больных и раненых были умерщвлены способом слишком зверским, чтобы о нем рассказывать. Другой раз испанцы с величайшим хладнокровием утопили в реке Миньо семьсот пленных французов. Подобные эпизоды насчитываются сотнями, и в них принимали участие люди, которых за это и поныне еще изволят прославлять. Когда все эти зверства достаточно озлобили французскую армию, она стала проявлять жестокость, никогда, однако, не выражавшуюся в формальных нарушениях закона. Тех, кого называли мятежниками, расстреливали или вешали. В разгаре своей Испанской кампании Наполеон узнал, что Австрия, давно уже вооружавшаяся, намерена выступить. Приходилось либо Испанию, либо Францию с Италией доверить кому-нибудь из полководцев. Колебаниям не было места; ошибка Наполеона была вызвана необходимостью, но с этой минуты Испания была потеряна. Армии, которая перестала быть Великой армией, возвеличенной присутствием самого деспота, стали уделять все меньше внимания. Сколько бы она ни совершала доблестных дел, отныне на долю войск, действовавших в Испании, уже не выпадало ни наград, ни повышений.
Положение стало окончательно нестерпимым вследствие того, что рознь, и раньше уже довольно заметная, между Жозефом и Наполеоном все обострялась. Вначале тому были две причины: во-первых, Наполеон не оказывал Жозефу никакой помощи, а маршалы вели себя по отношению к нему вызывающе: во-вторых, у Наполеона относительно Испании возникли новые планы. Жозеф считал, что раз уж его сделали королем, то он и выглядеть должен, как король, что вынужденное пребывание в хвосте армии вряд ли способно подготовить его появление во главе народа и что народ, в котором так сильно выражена гордость, должен особенно делать, чтобы его правителю оказывали почет. Людовик XIV, искушенный в тщеславии, не впал бы в подобную ошибку. Деньги, вывезенные из Пруссии, - около ста миллионов - вовсе не предполагалось израсходовать на этот поход. Наполеон, всегда считавший, что война должна сама себя кормить, не был намерен затрачивать крупные суммы на борьбу с испанцами. Он хотел, чтобы Жозеф сам изыскивал средства на ведение войны; однако Испания даже в мирное время едва ли была в состоянии нести такие расходы. Выставлять подобное требование в тот момент, когда французские войска господствовали лишь на той территории, которая была ими оккупирована и которую они вконец истощали, значило дойти до величайшей нелепости. Но этим дело не ограничилось. Прибыв в Испанию, Наполеон тотчас начал к ней присматриваться, она ему понравилась, и он задумал отхватить от нее кусок. Этот замысел в корне противоречил принятым в Байонне решениям. Беспокойный и пылкий дух Наполеона, лишь в творчестве находивший мимолетное успокоение, без устали открывал в делах новые возможности. Мысль, зародившаяся сегодня, пожирала ту, что увлекала его накануне, и, чувствуя в себе силу преодолеть любые препятствия, этот человек, перед умом которого предел возможного непрерывно отодвигался, как горизонт перед путником, ничего не признавал незыблемым. Наполеона нередко считали вероломным; он был всего лишь непостоянен. В силу этой черты своего характера он менее всякого другого европейского монарха был способен придерживаться конституционного образа правления. Сначала он вполне чистосердечно решил уступить Испанию Жозефу; бесспорно, в Байонне он и не помышлял о том, чтобы завладеть хотя бы одною из ее областей, На обратном пути из Бенавенте, где он, несмотря на все те препятствия, которые могут создать снег, суровая зима и гористая местность, по пятам преследовал англичан, он заехал в Вальядолид и с нетерпением ждал прибытия депутатов города Мадрида. Он вызвал одного из своих придворных, сопровождавшего этих депутатов. Ему не терпелось поскорее уехать во Францию. Дело было ночью, погода - ужасная. Наполеон поминутно открывал окно, чтобы взглянуть на небо и определить, можно ли двинуться в путь. Обращаясь к окружавшим его придворным, он, по своему обыкновению, забрасывал их вопросами, но преимуществу расспрашивая о том, что в Мадриде намерены предпринять и чего, в сущности, хотят испанцы, Ему говорили, что испанцы недовольны; в ответ он стал доказывать, что они неправы, что недовольство с их стороны невозможно, что народы всегда рассуждают здраво, когда речь идет об их кровных интересах, что испанцам дастся возможность освободиться от десятины, неравенства, феодальных повинностей, сбросить с себя иго духовенства. На это ему возражали, что, во-первых, испанец, ничего не зная о положении дел в Европе, не способен оценить эти преимущества, но что зато он по своей гордости никому ничем не желает быть обязанным и что вообще этот народ подобен жене Сганареля, которая хотела, чтобы муж ее колотил. Наполеон рассмеялся и, расхаживая большими шагами по комнате, властно заявил: "Я не знал Испании: она прекраснее, чем я думал. Я сделал брату роскошный подарок; но вы увидите: испанцы наделают глупостей, и она достанется мне. Я разделю ее на пять, больших вице-королевств". Он был удивлен тяготением Испании к союзу с Англией. На испанских королей наполеоновской династии он рассчитывал не больше, чем на ее королей из дома Бурбонов. Он сознавал, что короли как той, так и другой династии при первом удобном случае объявят себя независимыми, как это уже пытались сделать короли голландский и неаполитанский. Наполеон покинул Вальядолид на другой день после того, как с такой поразительной откровенностью раскрыл свои замыслы, и за несколько часов галопом проскакал тридцать миль, отделяющие этот город от Бургоса. Через четыре дня он был в Париже. Изумительная быстрота, с которой он путешествовал, способность противостоять любому утомлению являлись частью его таинственного обаяния; все, вплоть до последнего форейтора, чувствовали, что в этом человеке была какая-то нечеловеческая сила.
[1] "Мы держались того мнения, что обманывать искусно, не вполне скрывая правду, человека столь двуличного, как Наполеон, значило совершать поступок не только не предосудительный, а, напротив, достойный похвалы". Эскоикис, стр. 124.
ГЛАВА XLIII
Заглянем на минуту в покои Тюильрийского дворца, где решались судьбы Европы. Испанская война знаменует собой начало ослабления могущества Наполеона и вместе с тем начало заката его гения. Благополучие мало-помалу изменило и испортило его характер. Он впал в ту ошибку, что чрезмерно восхищался своими успехами и недостаточно презирал королей, своих собратьев. Он упивался отравой лести. Он утвердился в мысли, что для него не существует непосильных предприятий. Он уже не мог переносить противоречия; вскоре малейшее возражение стало им восприниматься как дерзость и к тому же еще как глупость. Так как он неудачно выбирал себе помощников, то обычно увенчивались успехом только те его предприятия, которыми он руководил лично. Вскоре его министрам пришлось делать вид, что они лишь раболепно излагают его мысли. Люди действительно даровитые отказались от своих должностей или, втайне над ними насмехаясь[1], стали притворяться, что разучились думать. В наш век подлинное дарование не может не сочетаться со взглядами хоть сколько-нибудь либеральными; Наполеон сам является тому примером, и это считается самым тяжким из его преступлений.