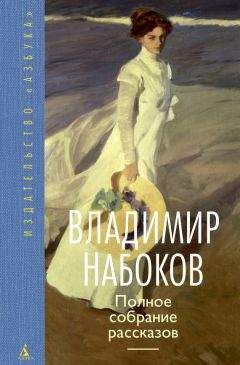всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятья. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо.
* * *
Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из‐за ширмы и подошел к постели.
Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое‐как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея.
Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, – одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу – что‐то крошилось, потрескивало под ногой – и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие, как клочья рваных знамен, вдоль покатого стекла. Впустив утро – прищуренное, жалкое, – я рассмеялся, сам не знаю чему, – быть может, тому, что вот, я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина, – и думал о тебе.
Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил – не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.
Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не видел тебя.
Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина – очертания их менялись благодаря неверным внутренним переливам стекла, – и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновенье легкую изумленную осеннюю синеву.
Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.
Когда после обеда я вышел на улицу – встретить тебя, – голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.
Я шел и думал о том, что, верно, на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.
Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах – мутная тошнота, что бывает, когда натощак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.
Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.
А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток – открытки, планы, веера цветных снимков, – а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом, – и тоже ждала.
Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится – покупатель или ты? У старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой‐то лоток – очень хорошие, любопытные вещицы. Но я – ничего…»
Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впиваясь яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушая ему: купи, купи… – но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.
Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза, – и нарочно не смотрел, дорожил самообманом.
Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что‐то вроде короткого тулупчика – желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась книга – путеводитель по Берлину, – и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.
Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.
А старушка уселась снова, и, так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.
Прошло уже с час, – быть может, больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик… Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.
Старушка, аккуратно переложив в книге закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из «Адлона», который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей