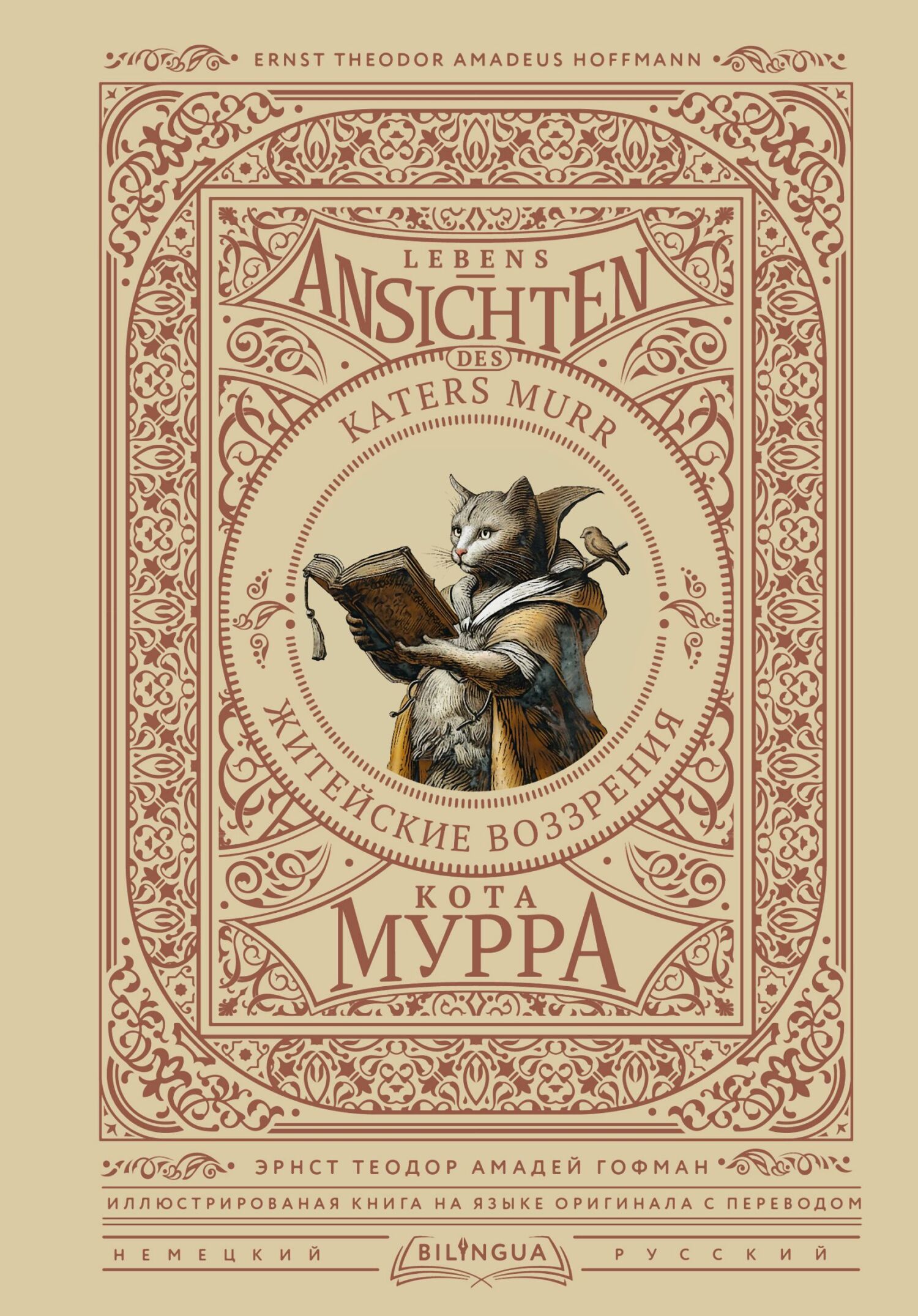alt="" src="images/i_006.jpg"/>
– Ни церковь, ни светский суд, – проговорил аббат, – не могут возложить на вас какое-либо наказание за смерть этого грешника. Но внутренний голос долго будет вам говорить, что лучше было бы вам самому пасть, нежели убить противника, что вечному Промыслу угоднее видеть, как человек жертвует своей жизнью, не желая покупать ее ценой кровавого деяния. Но, впрочем, теперь об этом говорить не время; нам нужно поговорить о другом, что ближе, нужнее. Кто из смертных может предвидеть все изменения, могущие постигнуть нас! Давно ли я был убежден, так глубоко убежден, что для спасения вашей души ничего не может быть лучше, как отречься от мира и вступить в наш орден! Теперь я совсем другого мнения и, как ни ценю вас, все же не могу вам не посоветовать возможно скорее оставить аббатство. Не думайте обо мне ложно, любезный Иоганн! Не спрашивайте меня, почему я подчиняюсь против убеждения чужой воле, которая грозит разрушить все, что я создал с таким трудом. Если бы я и захотел говорить с вами о мотивах моего поведения, вы должны были бы быть глубоко посвященным в таинства церкви, для того чтобы понять меня. Однако с вами я могу говорить свободнее, чем с кем-либо. Узнайте же, что в самом близком будущем наш монастырь перестанет быть для вас тихой обителью, а, напротив, покажется вам пустынной, безутешной тюрьмой, где всем вашим лучшим стремлениям будет нанесен смертельный удар. Весь порядок монастырской жизни меняется: благочестие, соединенное со свободой, доживает свое время, и мрачный дух монашеского фанатизма скоро будет свирепствовать среди этих стен. Иоганн, Иоганн, ваши чудные гимны не будут больше возносить наш дух в сферы высшего религиозного созерцания, хор будет уничтожен, и скоро ничего не будет здесь слышно, кроме монотонных припевов стариков-монахов.
– И все это по воле пришлого монаха Киприануса?
– Любезный Иоганн, – скорбно возразил аббат, опуская глаза, – так должно быть, и не я тому виной. Но, – добавил он торжественным тоном после минутного молчания, – здание церкви должно воздвигаться все выше и выше, и никакая жертва, ведущая к этому, не будет слишком велика!
– Но кто же, – воскликнул с недовольством Крейслер, – кто же этот могучий святой муж, что вами он повелевает и меня спасает одним словом от руки убийцы?
– Вы запутаны в некую тайну, Иоганн, – проговорил аббат. – Теперь вы не можете и не должны узнать ее вполне, но скоро вы узнаете очень много, быть может больше, чем я. Все это вам сообщит мейстер Абрагам. Киприанус, которого мы сегодня еще называем братом, принадлежит к числу избранных. Он удостоился вступить в непосредственное соприкосновение с вечными силами Неба, так что мы теперь уже должны чтить в нем святого. Что касается того незнакомца, который забрался в церковь и с самыми кровожадными намерениями схватил вас за горло, это беглый, полусумасшедший парень-цыган. Наш управитель уже неоднократно подвергал его телесному наказанию за то, что он ворует у крестьян кур. Чтобы выгнать его из церкви, не требовалось особенного чуда.
Когда аббат произносил последние слова, на губах у него показалась мимолетная ироническая улыбка.
Сильнейшая досада овладела Крейслером: он увидел, что аббат, несмотря на все свои прекрасные качества, хитрил, и что все доводы, которыми аббат раньше хотел убедить его вступить в орден, были такой же маской, как и те доводы, которые он только что высказал. Крейслер решил поскорее выбраться из монастыря и отделаться от всех этих тайн, все больше и больше его запутывавших. Когда же он подумал, что, вернувшись теперь же в Зигхартсгоф к мейстеру Абрагаму, он увидит ее, вновь услышит ее голос, когда он подумал, что она составляет для него все, – грудь его невольно сжалась сладостным предчувствием любви.
Глубоко задумавшись, Крейслер шел по главной аллее парка, как его обогнал патер Гилариус, немедленно воскликнувший:
– Вы были у аббата, Крейслер, он вам все сказал! Ну, что, не прав ли я? Мы все погибли! Этот святоша – комедиант… конечно, все останется между нами! Когда он, – вы, конечно, знаете, про кого я говорю, – надев клобук, пришел в Рим, Его Святейшество папа немедленно дал ему аудиенцию. Пав на колени, он поцеловал его туфлю. Не давая ему знака встать, папа заставил его пролежать таким образом целый час. «Пусть будет это твоим первым церковным наказанием», – проговорил наконец папа и, позволив встать, прочел Киприанусу длинную проповедь о греховных заблуждениях. Получив потом подробные, тайные инструкции, он отправился сюда. Давно уж не было ни одного святого! Чудо – ведь вы видели картину, Крейслер! – чудо впервые получило надлежащую окраску уже в Риме. Я, знаете ли, не более как честный монах-бенедиктинец, изрядный praefectus chori, как вы сами согласитесь; за процветание святейшей католической церкви я охотно выпью стаканчик хорошего вина, но… единственным моим утешением является мысль, что он здесь недолго пробудет. Ему нужно будет проветриться, попутешествовать. Monachus in claustro non valet ovae duo; sed quando est extra, bene valet triginta. Заодно он и чудес тогда понаделает… Вон, Крейслер, смотрите, он идет сюда по аллее. Он нас заметил и заранее принял должный вид.
Крейслер увидел монаха Киприануса: подняв глаза к небу, сложив руки, он шел медленно и торжественно, как бы охваченный религиозным экстазом.
Гилариус поспешно удалился. Крейслер, напротив, остался и весь впился в лицо монаха, носившее на себе какой-то странный, своеобразный отпечаток, делавший его непохожим на всех других людей. Необычайные события, пережитые кем-либо, оставляют всегда на лице несомненные следы, то же самое, очевидно, было и здесь.
Монах хотел пройти мимо, не заметив Крейслера. Этот последний, однако, возымел сильное желание загородить дорогу строгому посланнику главы церкви, заклятому врагу лучшего из искусств.
– Позвольте, досточтимый, засвидетельствовать вам мою благодарность. Сильным словом, сказанным вовремя, вы спасли меня от покушений грубого цыгана, который, несомненно, задушил бы меня, как ворованного куренка!
Монах как бы пробудился от сна, провел рукой по лицу и устремил на Крейслера долгий пристальный взгляд, потом, как бы вспомнив что-то, он громко воскликнул, причем все лицо его исказилось гневом:
– Дерзкий преступник! Я должен был бы допустить, чтобы такой наглец погиб во грехах! Не вы ли осквернили святой культ церкви своим светским музыкальным вздором. Не вы ли ослепляли набожные умы тщетными ухищрениями, не вы ли отвращали души молящихся от истинной святости, наполняя их суетной жаждой мирских песен?
Крейслер был возмущен безумными упреками фанатика и захотел