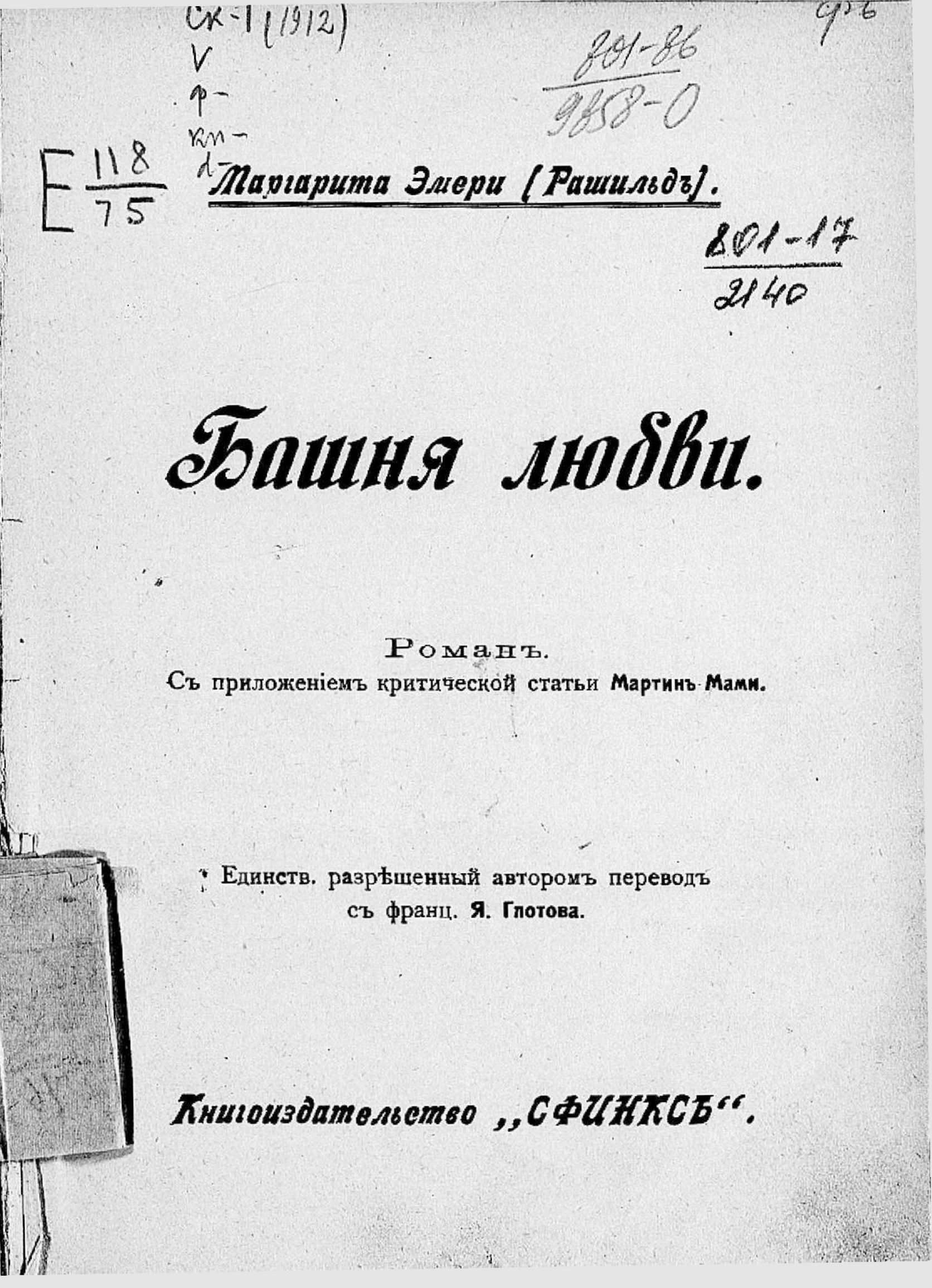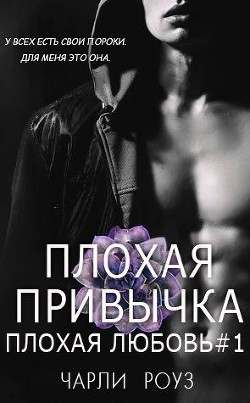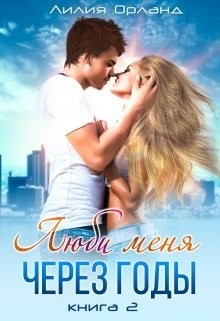мы откроем в себе вселенную”.
Реальность оказалась несколько иной. У Гранжиль в руках сумка и клетка с вороной-Юлькой, с которой она не захотела расстаться. Юлька роняет „на скамью свои зловонные испражнения”... О, поэзия! Ворона тоже символический персонаж.
Ворона, лавочник, Гранжиль, Сильвен д’Отерак, вот четыре символа, которые я сумел насчитать в „Кровавой иронии” М. Эмери, а если вспомнит еще Жанну Симеон, то их будет пять.
От женщины у Жанны Симеон осталось только ее имя да „прекрасный бюст, который можно поставить на камине, между двумя китайскими вазами”.
Под этим надо понимать, что она живет только от головы до поясницы, а остальное тело ее мертво, пораженное параличом.
Будем осторожны. Это не только патологический каприз М. Эмери, но и мощный символ.
Здоровому телу Гранжиль, страшно банальной, но живой жизни Гранжиль, нормальному полу Гранжиль, противополагается половая невозможность Жанны. На половой пол, если я осмелюсь так выразиться, откликнется пол мозговой, на мечту— реальность, и Жанна Симеон станет естественной добычей неутолимой любви Сильвена, потому что она представляет в его глазах, „невозможность”, то есть идеал, и он знает, что „тот, у кого хватит воли, чтобы воздержаться в любви от сближения, будет Богом”.
„Жанна Симеон была тем запечатанным источником, о котором говорится в Писании”. Она была телесной формой, сделанной из мрамора, с ней не мыслимы разные грязные подробности, и никто никогда не должен знать, что происходит в ней, потому что обыкновенно, „никто не проникает в уборную, которая служит прихожей морга!”
Он пришел в восхищение, когда она протянула ему губы. Ему показалось, что он приближается к своей воплотившейся мечте. „Я только что притронулся губами к химере!” восклицал он распаленный.
Но участь химер — быть не долговечными, и судьба символов — обращаться в небытие. Жанна Симеон умирает, за то не умирает жизнь, и когда Сильвен д’Отерак возвращается с кладбища, где была похоронена нереальность, он снова находит Гранжиль, потому что Гранжиль вечна.
Молодой человек уже два раза обагрил кровью руки из-за преданности своему инстинкту. Логически ему следует броситься на жизнь, на эту жизнь, которая повсюду, которая даже врывается в окошко с криком улицы: „свежие селедки... свежие селедки”... И действительно, в то время, когда Гранжиль собирается без него, ненормального, устраивать практическое и разумное существование нормальных людей, д’Отерак „беззаботно”, „очень спокойно...”, жестом „более быстрым, чем сама мысль об убийстве”, вонзает ей нож между лопатками.
***
М. Эмери очень умело пользуется эффектами. Она их точно отмеряет капля по капле и всегда, или почти всегда, у ней имеется как раз нужная доза. Это можно видеть в „животном” и я пытался показать это на „Кровавой иронии”. Не трудно проделать тоже самое и над остальными произведениями М. Эмери.
Но это уже вопрос техники, и, чтобы не погрешить против литературной справедливости, мне вполне достаточно только обратить внимание читателей на это свойство. Исследуя книги М. Эмери, я предпочту излагать, каким образом она в каждом из своих романов воссоздает, с неисчерпаемым разнообразием, историю борьбы, возникающей одновременно на почве физиологии и в области разума.
С этой точки зрения, Маделена Деланд в „Принцессе Тьмы” является сестрой Сильвена д’Отерака, „Кровавой иронии”.
Она, как и он, становится убийцей, но ее удары разят только ее одну. Она, как и он, страдает, натыкаясь всюду на вульгарность. ...„горизонт ее родителей страшно ограничен. Сплетни, кухня, пересуды всего парижского под соусом провинциальных взглядов... чтение местного „листка” и обсуждение цен на съестные припасы”...
Скука среды, а также, вероятно, и тяжесть слишком долго сохраненного девства расстроили ее нервную систему и заставили ее половой инстинкт принять несколько иное направление.
М. Эмери, отметим это мимоходом, уделяет особое внимание половому моменту у молодых девушек.
Безжалостно, с изумительной искренностью преследует она свою цель — выяснить физиологическую правду женщины.
„A-а! Вы верите, как будто хочет сказать М. Эмери, спокойной внешности этой сдержанной девушки? Вы уверены в ее лилейной чистоте? Вот что у нее внутри“!
И перед нами падает белая гусыня, это похотливое, любопытное тело, живущее своим собственным сладострастием.
Разве не говорил я Вам, что М. Эмери певец инстинкта?
Какова бы ни была маска, обычно надетая искусственным воспитанием, маска, которой молодая девушка прикрывает свои черты, под нею, уверяет М. Эмери, в конце концов всегда существует древнее желание животного-самки, которой хочется быть изнасилованной.
Нужно иметь известную смелость, чтобы, будучи женщиной, признаться в подобных вещах. Это не показывает особенного уважения к духу касты, который так силен у наших подруг. И это значит сразу, одним ударом, восстановить против себя и мужчин, у которых отнимается некоторая часть, — я назвал бы ее христианской, — их удовольствия, и женщин, которые прежде всего терпеть не могут обнаруживать свою подлинную природу и тем самым делаться слабей в вековой борьбе.
Д’Отерак был прав. Насилие необходимо. Если бы какой нибудь утонченный и скромный Солейлан изнасиловал Маделену Деланд, ее здоровье было бы в большем равновесии. Она сделала бы счастливым своего мужа и произвела бы на свет Божий славных ребят вместо того, чтобы создавать, под влиянием галлюцинаций и раздвоения личности, призрак Гунтера, любовника недостижимого, как в „Кровавой Иронии” была недостижима разбитая параличом Жанна Симеон.
Вера в сверхъестественное, мистицизм, есть лишь извращение полового инстинкта, и Маделена Деланд является как бы светской святой Терезой. Можно было бы написать интересный этюд о влиянии литературы на мистиков. В другую эпоху Маделена, я хочу сказать М. Эмери, безумно увлеклась бы тенью Христа вместо того, чтобы стремиться к Гунтеру. Между святой Терезой и М. Эмери имеется Фауст Гете, Байрон, школа 1830 года и Цветы Зла Бодлэра. Но это не моя тема.
Уже с первых страниц „Принцессы Тьмы” Маделена готова к принятию идеального любовника.
Она ложится, наконец, спать, чтобы „забыть бессмысленный день и затем начать другой, еще глупее”, но она наделяет странной жизнью самые простые вещи и самые естественные происшествия.
Так как жизнь не соответствует пылкости ее мечтаний, она готова придумать иную, небывалую и сверхъестественную. Наука называет это болезнью... но наука... Может быть, само бессилие и держит ее в равновесии...
„Она хотела закрыть окно; но его половинки не двигались с места, она не могла ничего с ними поделать и была страшно поражена. Почему это окно не затворяется так же просто как днем? Почему вдруг так стало холодно в эту прекрасную июньскую ночь? Тоскливое беспокойство охватило ее“...
Обстановка подготовлена. Привидение может явиться. Оно является. Вот Гунтер.
„За белым туманом выделялось иссиня-бледное лицо, на котором особенно были заметны кроваво-красные губы,