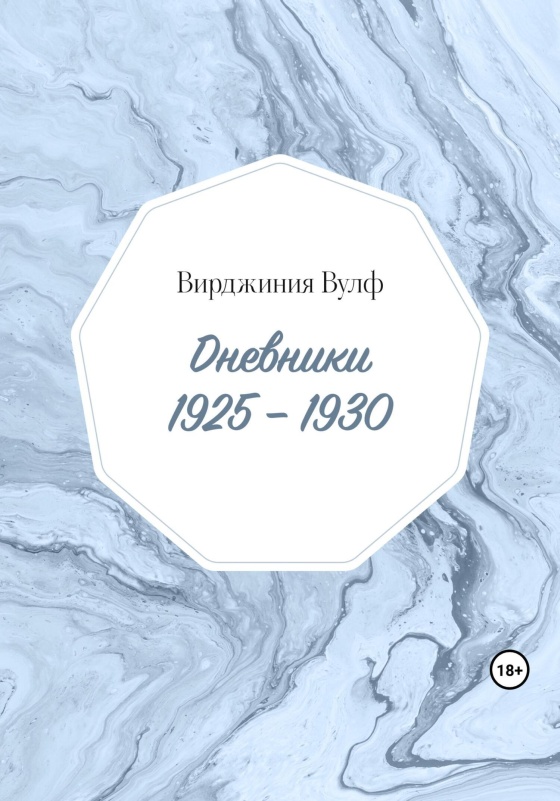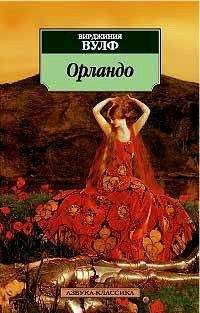повсюду. Так, вкрадчиво и незаметно, ничем не обозначив точного дня или часа, изменился английский уклад, и никто об этом не узнал. Стойкие сквайры, с удовольствием поглощавшие эль с бифштексом в комнате, спроектированной архитекторами-неоклассиками братьями Адам, начали зябнуть. Появились пледы, мужчины обзавелись бородами, штаны пришлось туго затягивать у щиколоток. Промерзшие ноги сказались и на домашней обстановке: люди кинулись укрывать мебель, столы, стены – голых поверхностей не осталось. Затем последовали перемены в рационе. Изобрели оладьи и пышки. Любители послеобеденного портвейна перешли на кофе, а поскольку для питья кофе понадобились гостиные, для гостиных – застекленные шкафчики, для шкафчиков – искусственные цветы, для цветов – каминные полки, а там и фортепьяно, и популярные в гостиных баллады, и те, в свою очередь, потянули за собой (пропустим пару этапов) бесчисленных собачонок, коврики и фарфоровые безделушки, и дом родной, неожиданно преисполнившись важности, совершенно преобразился.
Снаружи домов – еще одно последствие сырости – с невиданным размахом разросся плющ. Здания из голого камня буквально утопали в зелени. Ни один сад, каким бы образцовым ни был изначально, не обходился теперь без зарослей кустарников, живописных дебрей, лабиринтов. Спальни, где рождались дети, наполнились сумрачно-зеленым светом, а гостиные, где за плюшевыми шторами жили взрослые, – коричневым и лиловым. Перемены не ограничились миром вещей. Сырость проникла и в души. Мужчины ощутили холод в сердцах, сырость в умах. В отчаянном стремлении придать чувствам хоть какую-то теплоту они прибегали к самым разным уловкам. Любовь, рождение и смерть окутывались множеством красивых фраз. Разделение двух полов все больше усугублялось. Открытые разговоры стали недопустимы. Обе стороны погрязли в тайнах и экивоках. И так же, как сырость почвы снаружи способствовала бурному росту плюща и вечнозеленых растений, сырость внутри обеспечивала не меньшее плодородие. Жизнь обычной женщины превратилась в череду деторождений. Замуж она выходила в пятнадцать и к тридцати годам успевала родить пятнадцать или восемнадцать детей, поскольку близнецы появлялись часто. Так возникла Британская империя, и так (ибо сырость не остановить, она просочилась даже в чернильницу) фразы распухали, прилагательные множились, лирика разрасталась до эпоса, а мелкие пустяки, прежде умещавшиеся в эссе длиной в колонку, – до энциклопедий в десять или двенадцать томов. Ну а свидетелем того, какой эффект это произвело на натуру чувствительную, неспособную противиться переменам, послужит нам Евсевий Чабб. В самом конце своих мемуаров он повествует, как однажды утром, написав тридцать пять листов «буквально ни о чем», закрутил крышечку чернильницы и вышел прогуляться по саду. Вскоре он обнаружил, что углубился в заросли кустарника. Над головой поскрипывали и блестели бесчисленные листья, ногами он «попирал еще миллион листьев павших». В конце сада густо дымил сырой костер. И он понял, что с подобным изобилием не справится никакой огонь. Куда ни глянь, везде буйствовала растительность. Огурцы «приподкатывались по траве прямо к ногам». Гигантские кочаны цветной капусты возвышались друг над другом, и его расстроенному воображению казалось, что они соперничают по высоте с вязами. Куры непрерывно несли яйца какого-то совсем блеклого оттенка. Со вздохом помянув собственную плодовитость и бедняжку-супругу Джейн, маявшуюся в заточении пятнадцатыми родами, он задался вопросом, вправе ли винить пернатых? Чабб посмотрел в небо. Разве сам купол небосвода или великий фронтиспис Небес, коим является небо, не свидетельствуют об одобрении или скорее попустительстве всей Божественной вертикали? Ибо там и зимой, и летом, год за годом, облака кружатся и кувыркаются, подобно китам, размышлял он, или даже слонам; и невольно напрашивалось сравнение, давившее на него тысячами воздушных акров – само небо, раскинувшееся над Британскими островами, не что иное, как огромная перина, и неприметное на первый взгляд плодородие сада, спальни и курятника позаимствовано именно оттуда. Он пошел в дом, написал процитированный выше фрагмент, сунул голову в газовую духовку и, когда его нашли, уже не подавал признаков жизни.
В то время, как это происходило по всей Англии, Орландо с удовольствием укрылась в особняке в Блэкфрайерсе, делая вид, что климат остался прежним, говорить можно что взбредет в голову и носить то бриджи, то юбки. Наконец даже ей пришлось признать, что времена изменились. Однажды днем, в начале века, она ехала через Джеймс-парк в своей старой карете, и вдруг редкий солнечный луч, которому с великим трудом удалось пробиться сквозь тучи, окрасил их в необычайно радужные тона. После ясного и однотонного неба восемнадцатого столетья подобное зрелище удивило Орландо, и она опустила шторку, чтобы полюбоваться. Пюсовые и розовые, как фламинго, облака преисполнили ее приятного томления, доказывающего, что сырость добралась и до нее, напомнив о дельфинах, умирающих в Ионическом море. Каково же было ее удивление, когда солнечный луч, достигнув земли, вызвал к жизни или скорее высветлил пирамиду, гекатомбу или трофей (ибо отчасти конструкция напоминала ломящийся от яств праздничный стол) – нагромождение самых разнородных и несовместимых элементов, наваленных как попало на огромный постамент, где теперь возвышается статуя королевы Виктории! Вокруг громадного золотого креста, украшенного резьбой и цветочным орнаментом, были обмотаны вдовьи одежды и фата невесты, к соседним выступам крепились хрустальные дворцы, колыбельки, военные каски, мемориальные венки, бакенбарды, свадебные торты, пушки, рождественские елки, телескопы, вымершие чудовища, глобусы, карты, слоны и готовальни – и справа все это подпирала, словно исполинский герб, женская фигура в развевающихся белых одеждах, а слева – упитанный джентльмен в сюртуке и мешковатых брюках. Несуразность предметов, нелепое сочетание полностью одетой и полуголой статуй, пестрота красок и их неуклюжее совмещение повергли Орландо в глубочайшее смятение. Ей за всю жизнь не доводилось видеть ничего столь безобразного, чудовищного и монументального одновременно. Возможно, и даже наверняка виной тому – преломление луча в насыщенном влагой воздухе, и видение исчезнет с первым же порывом ветерка, но нет, думала она, проезжая мимо, похоже, оно простоит века. Ничто, казалось ей, забившейся в угол кареты, ни ветер, ни дождь, ни солнце, ни молния неспособны разрушить это вопиющее безобразие. Лишь носы облупятся и трубы заржавеют, сама же конструкция выстоит, вечно указывая на восток, запад, юг и север. Въезжая на Холм конституции, Орландо оглянулась. Увы, на том же месте, все так же безмятежно сияет при свете дня – она вытащила из кармашка часы, – да, так и есть, полдень. Нельзя и вообразить ничего более прозаичного, будничного, равнодушного к любым намекам закатных или рассветных часов и явно рассчитанного на века. Орландо предпочла отвести взгляд и больше не смотреть. Она ощутила, как густеет в жилах кровь, замедляя бег. Но что гораздо более любопытно, когда она проезжала мимо Букингемского дворца и опустила взгляд на колени, по