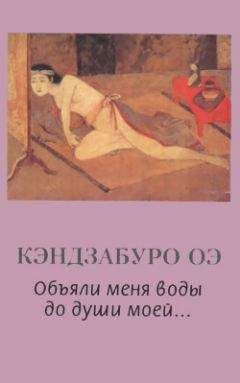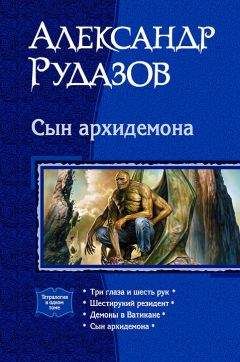Как ежедневное удовольствие и украшение Камусфеарны именно появление диких гусей превзошло мои самые оптимистические ожидания. Начиная с того, как я уже говорил, что они ещё не умели летать, только самые кончики их жестких крыльев торчали из-под синей с красным мантии. Но они целыми днями стояли и с надеждой неуклюже хлопали крыльями, приподымаясь над землёй примерно на фут и продвигаясь вперёд неуклюжими и неизящными прыжками. Как это выпало нам с Джимми Уаттом, которые сами не умели плавать, учить этому выдру, так и теперь, по мере того, как гуси подрастали, и их крылья стали достаточно длинными для полёта, но воображение ещё не доросло до того, чтобы пытаться сделать это, именно нам пришлось учить летать этих диких гусей. Джимми бегал впереди них, отчаянно размахивая руками изображая полёт. И вот однажды эти подростки, выполняя те же действия и поспешая за ним, вдруг, к своему изумлению, полетели. Вначале была целая серия смешных до неприличия вынужденных посадок, но за эти несколько секунд они обрели свои способности. Через неделю они уверенно и мощно стали на крыло, и в ответ на зов из дома прилетали сюда наперекор ветру с песчаных пляжей дальних островов.
На ночь мы их запирали в проволочном вольере с полом и потолком из сетки, чтобы уберечь от диких кошек и лисиц. А когда утром мы выпускали их, они взлетали с шумом и гамом и прокладывали себе крыльями путь вдоль ручья к морю, переворачиваясь и кружась в воздухе, "кувыркаясь", как говорят охотники, отдаваясь чистой радости полёта.
Должен признаться, что, несмотря на всё своё очарование и красу, эти пятеро гусей в некоторых аспектах обнаруживали удивительное отсутствие интеллекта и даже откровенную глупость, что в корне противоречит поверью о приписываемой им мудрости. Даже после того, как они уже несколько месяцев были знакомы с хозяйством усадьбы, всё равно оставались сомнения, сумеют ли они попасть в ворота без того, чтобы то один, то другой из них не отстал. Нередко гусь оказывался не с той стороны открытых ворот, и вместо того, чтобы обойти вокруг и присоединиться к своей стае, вдруг отчаянно начинал биться о сетку, разделявшую его с собратьями.
Ещё более удивительным было их поведение в вольере, укрывавшем их на ночь.
Каждое утро я отправлялся открывать сетчатые ворота, чтобы выпустить их. Как только я появлялся, они устраивали гомон, достигавший предела, когда я подымал барьер, и они вываливались наружу. Однажды утром в сентябре, встав на рассвете, я открыл им ворота (которые составляли одну из стенок загона) на два часа раньше того времени, к которому они привыкли. Они поприветствовали меня как обычно, но не стали выходить, и я ушёл обратно в дом, полагая, что они зашевелятся, как только взойдёт солнце, и вновь пустился в размышления о роли распорядка в поведении животных. Почти три часа спустя, намного позже того времени, как они обычно улетали к морю, я вдруг выглянул из кухонного окна. Они всё ещё были в вольере, сердито переругиваясь и прохаживаясь взад и вперёд у открытых ворот, как будто бы какая-то невидимая перегородка отделяла их от травы снаружи. Решив, что их можно освободить только каким-либо символическим жестом, я вышел к ним с таким видом, как будто бы мы не виделись утром. Закрыл ворота, затем с треском растворил их, а сам при этом стал разговаривать с ними как обычно. С очевидным облегчением, можно сказать, в каждом своём движении, они гуськом вышли наружу следом за мной и почти сразу же полетели к берегу.
С последних дней мая до начала сентября лето в тот год пришлось у меня на отпуск. В то время, как Англия задыхалась от тропической жары, и прибрежные дороги из Лондона были на двадцать миль забиты очередями неподвижных машин, в Камусфеарне были лишь слабые проблески солнца сквозь пелену шторма и дождя, ручей скатывался вниз бурным потоком, а море беспокойно ворчало при беспрерывном ветре. Большая лодка сорвалась с якоря и пробила себе дно, и было очень мало дней, когда в маленькой плоскодонке можно было без риска выйти в море. Из-за этого, а также потому, что меня устраивала боязнь Эдаль открытого моря, что говорило в пользу её безопасности, только первого сентября мы возобновили с ней опыты в лодке.
Тем временем она стала значительно увереннее как в отношениях с нами, так и в своей стихии, и кружилась вокруг нас под теплым солнышком, пока мы тащили плоскодонку по песку ко всё ещё синему морю без единого всплеска отражавшему небо. Компанейские гуси с удовольствием принимали участие в этой затее, гогоча, следовали за нами к берегу, и вся наша разношерстная компания одновременно отправлялась в путь. Эдаль стрелой проносясь в чистом светлом море, хваталась лапами за вёсла и впрыгивала в лодку с целым фонтаном воды, а гуси плыли в нескольких метрах сзади и как бы укоризненно поглядывая на нас своими глазами из-за оранжевых клювов. Мы проплывали около мили вдоль берега с чудесными ярко-желтыми цветами оголённых при отливе водорослей на фоне вереска, рдеющего папоротника и голубизны горных вершин вдалеке. Вся прелесть Камусфеарны сосредоточена в этом утре: отчётливый, как молния, след выдры под водой; кружащий, серебристый полёт гусей, пролетающих над нами вперёд; длинные, вздымающиеся голубые валы моря среди шхер и морских зарослей; речушки, пенящиеся хрусталём и скатывающиеся со скал пеленой, которую подхватывала морская волна и слизывала с голого берега.
Эдаль, иногда обнаружив, что плывёт вроде бы над бездонной пропастью, вдруг страшно пугалась и по-собачьи устремлялась к лодке с высоко задранной головой, не смея глядеть вниз. Казалось, что её врождённая память чередовалась воспоминаниями о тусклых таинственных глубинах и лесах колышащихся водорослей и об уюте коврика у камина, поводке и надёжных руках человека. И вот она вдруг бросалась к лодке (которую совсем перестала бояться и чувствовала себя в ней как на суше), с маленькой озабоченной мордочкой над бешено мельтешащими передними лапами, стрелой выскакивала на поверхность пенящейся волны и прыгала на борт, неся с собой водопад. Затем она повисала на корме, крепко вцепившись задними лапами за планширь и погрузив голову в воду, разглядывала острый как нож край между морем и твердью земной, разрываясь между желанием исследовать подводный простор и страхом сгинуть в неведомой пучине. Иногда она бесшумно и почти без всплеска соскальзывала в глубину, и тут же вдруг пугалась и бешено устремлялась назад в лодку. И всё же в те мгновенья, когда уверенность ещё не покидала её, когда её изящное как торпеда тело скользило глубоко под водой рядом с лодкой, извиваясь над белым песком, между высокими, колышащимися стеблями ярких водорослей, или когда она стремительнобросалась в погоню за какой-либо невидимой сверху добычей, казалось, что вернулось прошлое, и что это Миджбил следует за лодкой в сверкающей воде.
После нескольких таких райских деньков среди островов гуси впервые не вернулись ночевать. Утром я звал их, но приветственного хора в ответ не услышал. Им ещё рановато было проявлять инстинкт к перемене мест, который, как я думал, они, возможно, и утратили после нескольких поколений не занимавшихся перелётами предков, и когда я не обнаружил их следов и днём, то испугался, как бы они не забрели слишком далеко и не стали жертвой какого-либо заезжего охотника с ружьём четвертьдюймового калибра. Я уже было отчаялся увидеть их вновь, когда ранним вечером приехал с Эдаль на один из белоснежных пляжей на острове, где вздумал познакомиться с высадившейся там с лодки группой туристов. Я разговаривал с ними и вдруг в полумиле к северу увидел длинную цепочку гусей на фоне неба, и, с дурацким приливом радости узнал своих пропавших диких гусей. Я позвал их, когда они пролетали высоко над нами в солнечных лучах, они как бы замерли в полёте и затем стремительно по спирали стали спускаться. Хлопая крыльями, они сели на песок у наших ног.
Я так и не перестал восторгаться тем, как мне удаётся призывать с неба диких гусей, которые на своём пути неподвижны как созвездие, когда солнце уже опускается за холмами Ская, слышать далеко-далеко их ответный гогот, и видеть силуэт их крыльев, взмахивающих над морем на фоне закатного неба. Эта стайка простых гусей доставляла мне больше радости, чем вся та большая коллекция экзотической дичи, предки которой были брошены на произвол судьбы и никому не нужны. Больше, пожалуй, испытывал я радости в их мирном нетребовательном сосуществовании, чем какой-либо средневековый дворянин в своём соколе, который по его мановению подымается за пролетающей дикой уткой или же затем, чтобы сбить в небе цаплю.
Хоть эти гуси причиняли мне мало хлопот и доставляли много радости, иногда они, как и все ручные животные, заставляли меня сильно поволноваться. Худшей из этих бед было то, как я увидел, как один из них, находясь вне пределов моей досягаемости, делал всё, что в его силах, чтобы проглотить рыболовный крючок.