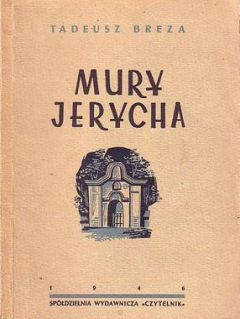- Значит, все в порядке? - спрашиваю я. - Документ будет?
Он на это:
- Жду вас между двенадцатью и половиной первого. Не позднее, потому что я заканчиваю работу.
Это не ответ на мой вопрос. То ли он его не расслышал, то ли в последний день у него нет времени для разговоров. Я кладу трубку, захожу в свою комнату, ставлю чемодан на стол и начинаю укладываться. Бумаги и книги вниз, альбом ватиканской архитектуры положу сверху: буду рассматривать его в дороге. В течение десяти минут очень старательно пакую вещи. И вдруг бросаю. Я не чувствую тревоги, у меня нет никаких сомнений относительно того, что дело улажено, но я не могу сидеть дома.
Девять часов. Сбегаю по лестнице и в маленьком баре на углу виа Авеццано и площади Вилла Фьорелли стоя выпиваю чашку кофе. За углом остановка. Я вижу, как приближается троллейбус.
Расплачиваюсь, бегу и вскакиваю в вагон. Уложить вещи всегда успею. Вчера вечером, слоняясь по городу, я неожиданно заметил, что нахожусь в двух шагах от вокзала. Отправился туда, отыскал столик, за которым мы в последний раз сидели с Пиоланти, выпил еще одну порцию лимонада, а потом подошел к доске с железнодорожным расписанием и выбрал наиболее удобные для меня поезда. Теперь в троллейбусе, я заглянул в календарик, куда все записываю. Один поезд уходит в час, на этот мне не поспеть. Следующие в четверть третьего, в три, в половине четвертого. Все они идут по маршруту, для которого мой билет действителен. Я составил список расположенных на этой трассе городов, которые мне хотелось посетить. Рассматриваю теперь мой список и радуюсь. Названий много, и поездов много. Есть из чего выбрать! От всего, вместе взятого, у меня возникает ощущение, будто я преодолел сопротивление пространства и наконец наслаждаюсь полной свободой. Наглядевшись на свои записи, я прячу календарик и смотрю в окно. Троллейбус как раз сворачивает на корсо дель Ринашименто, на площадь перед зданием бывшей школы моего отца и церковью святого Аполлинаре. Мы проезжаем мимо. На ближайшей остановке я схожу.
Сперва заглядываю в церковь, оттуда веет холодом. Я сажусь на скамейку. Мерцает лампадка перед алтарем, под которым, по мнению Шумовского, покоятся останки святых армян. У этого алтаря молился мой отец, трепеща от страха перед приближающейся examinum sessio'. Академический год начинался торжественной мессой в этой церкви. Отец не раз мне ее описывал.
Теперь в церкви пусто и темно, стены обезображены украшениями в стиле барокко. Я встаю и выхожу на площадь перед церковью, чтобы посмотреть оттуда на ее фасад, которым так восторгался отец. Линии тяжелые и строгие, но очень красивые.
Большое сходство с фасадом самого "Аполлинаре". Я долго рассматриваю здание, потом иду к воротам, ведущим во двор, и, так же как в первый вечер моего приезда в Рим, опираясь руками на решетку, любуюсь фонтаном-теперь, как и во времена отца, кажется, будто вот-вот иссякнут последние запасы его воды.
Кроме фонтана, кроме его анемично стекающей струи, двор мертв, ничто там не шелохнется. Я делаю один шаг и читаю надпись на прибитой сбоку табличке, заменившей прежнюю-с названием юридической школы "Аполлинаре", ньше присоединенной к латеранскому атенеуму. Новая табличка безупречно позолочена и ярко сверкает. Отец, наверное, нашел бы, что она не подходит к потускневшему от времени фасаду. В особенности потому, что это табличка рядового лицея.
Я еще раз обхожу площадь. За углом маленькая книжная лавка "Libreria S. Apollinare". И о ней я тоже слышал от отца.
Здесь студенты "Аполлинаре" приобретали учебники и печатные лекции. К концу года они продавали одни книги, покупали другие, а в течение года, случалось, закладывали их. Маленькая, заставленная книгами витрина манит меня. Я пробегаю глазами названия. Хотя бьшшая юридическая школа переехала далеко отсюда, книжная лавка не изменила своего характера. На выставке по-прежнему полно книг, посвященных исследованию utriusgue juris'[' Обоих прав (лат.)-гражданского и церковного], гагиографии2 [2 Описание священных предметов], истории церкви и вспомогательным дисциплинам. Некоторые труды я знаю-не потому, что изучал их, просто они попадались мне в библиотеке отца. Во время войны она сильно поредела. В ней образовались серьезные пробелы, отец часто на это жаловался. Перед отъездом я не составил списка недостающих книг, так как не рассчитывал, что у меня окажутся свободные деньги в Риме. А между тем как раз теперь я мог бы кое-что купить для отца. Вспоминаю, что у него даже нет полного комплекта "Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae"3 [3 "Решения и приговоры Священной Римской Роты" (лат.)]. Я не запомнил, каких именно выпусков недостает, однако последних, изданных после войны, у него, наверное, нет. Я вхожу в лавку, чтобы спросить о них. Книготорговец, очень старый, медлительный и глуховатый, дает мне четыре тома, самые последние. Они стоят дорого, я довольно долго в задумчивости разглядываю их. Вдруг старый книготорговец говорит:
- Lei, signer dottore, mon mi sembra straniero!
В переводе это значит, что я не кажусь ему иностранцем.
Отвечаю, что я все-таки иностранец. Тогда он говорит, что я его не понял. Дело в том, что мое лицо кажется ему знакомым.
- Давно у вас эта книжная лавка? - спрашиваю я.
- Она мне досталась в наследство от отца, погибшего во время первой мировой войны.
- А мой отец учился в "Аполлинаре", - говорю. - Наверное, он покупал у вас книги.
- Un Polacco?
- Bravo! Что за память! - восхищаюсь я.
Мой восторг трогает его. Разговор оживляется. Старый книготорговец вспоминает минувшие годы и сокрушается, что многое изменилось с тех пор, как он лишился столь ценного для него соседства "Аполлинаре". Все это время я перебираю лежащие на прилавке тома "Decisiones seu Sententiae". Перекладываю их, откладываю, никак не могу решить, сколько на них потратить.
- Вы берете их для отца? - спрашивает книготорговец.
- Для отца.
- А как ему живется?
- Да так, не слишком, - говорю я.
Книготорговец отворачивается и слабыми старческими руками тянется к полке. Кладет передо мной четыре тома, как раз те, которые мне нужны, только в переплете. Я возражаю. Но оказывается, что переплетенные стоят дешевле-они подержанные. Разница в цене значительная. От радости я покупаю все четыре тома. Старичок принимается их паковать. Процедура для него тяжелая и длится долго, а я тем временем разглядываю книги на полках. Название одной из них вызывает у меня интерес:
"Santa Catherina d'Alessandria nella legenda e nel'arte" ' ["Святая Катерина Александрийская в легенде и в искусстве" (итал.)]. Беру книгу, перелистываю: ведь это и есть та самая святая, сопокровительница Роты, чей портрет я безуспешно искал на старинных печатях в Ватиканской библиотеке. Среди иллюстраций попадаются репродукции картин Ван-Эйка, Мемлинга, Корреджо и снимки церквей, построенных в честь этой мученицы. Она жила в четвертом веке, но ее чудесную историю прославили лишь крестоносцы.
Листаю первые страницы книги, самые ранние иконографические материалы, - и замираю. Есть! Есть печать! Фотография замечательная. Эмблема в центре печати сохранилась великолепно. Читаю пояснения под иллюстрацией. Печать заимствована из ватиканских коллекций. Документ, который она сопровождает, относится к авиньонской эпохе. Это приговор Роты. На эмблеме изображены оба патрона Роты: Катерина и Августин. Одной рукой они поддерживают миниатюрную скамью, очевидно судейскую, а другой рукой на нее указывают. Скамья в форме круга.
Сцена, изображенная на эмблеме, может иметь только один смысл. Круглая скамья-символ трибунала, который в ту эпоху стали называть трибуналом Роты, то есть как бы трибуналом круга или диска, ибо таково значение слова"рота"и в классической, и в средневековой латыни. Значит, подтверждается моя догадка, родившаяся во Вроцлаве, где я напал на адресованное тамошней курии послание испанской Роты-довольно позднее, с поврежденной печатью. Я обрадовался, но радость моя тут же остыла. Я не мог считать свою гипотезу документально обоснованной, для этого недостаточно было прекрасной второй печати, которую я теперь разглядывал. С методологической, научной, стороны система доказательств была слишком шаткой. Я разозлился. Тот факт, что новая печать подкрепляла мою версию, только раздражал меня. Ибо много ли толку было мне как научному работнику от собственной уверенности, если я ничем не мог обосновать ее? Все мои прежние притязания были теперь бессмысленны. Я так разволновался, что весь вспотел. Я взял книгу и присоединил ее к уже запакованным томам. Я понимал, что любой человек, интересующийся историей Роты, вернее, происхождением ее загадочного названия, взглянув на снимок, который я только что рассматривал, задумается над ним и сможет пойти дальше по тому пути, откуда меня столкнули. Таким образом, я купил себе книгу вовсе не для того, чтобы завершить свой труд, а сам не знаю зачем. Разве что как доказательство нелепости того, что произошло со мной, и моей обиды. Я снова вытер свое вспотевшее лицо.