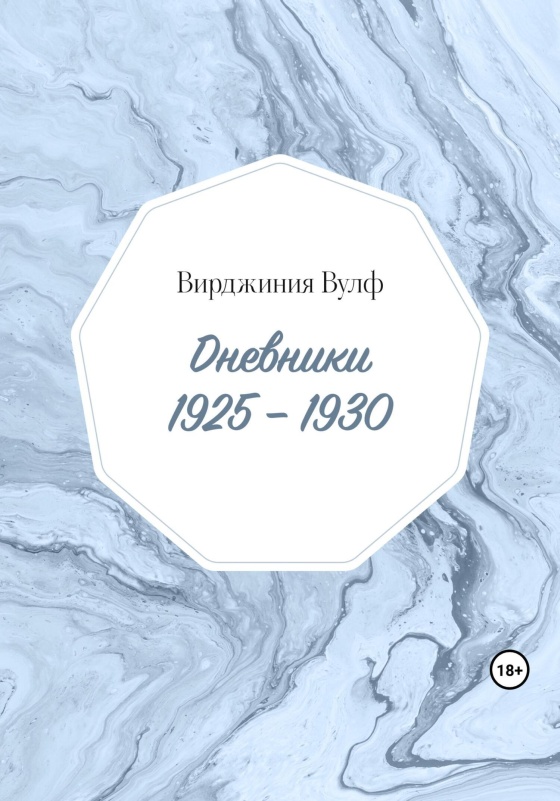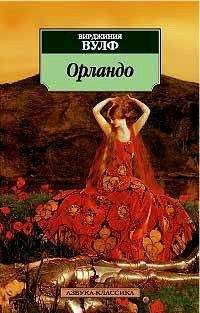все совершенно одинаковые. В маленьких квадратных коробочках видно все, никакого тебе уединения, никаких тебе теней и темных углов, никаких женщин в фартуках, что раньше вносили мерцающие лампы и аккуратно расставляли по столам. Одно касание – и в комнате совсем светло. И небо светлое ночь напролет, и тротуары – везде светло. Орландо вернулась в полдень. Как сузились женские силуэты! Теперь они напоминали стебли кукурузы – прямые, сияющие, одинаковые. А лица мужчин теперь голые, как ладонь. Сухость атмосферы вернула краски и укрепила мышцы щек. Плакать стало труднее. Вода закипала в две секунды. Плющ на домах исчез или его отскребли. Овощи утратили плодовитость, семьи сократились. Шторы и покрывала убрали, стены обнажили и украсили новыми, ярко раскрашенными картинами в рамах или нарисованными прямо на дереве, изображающими реальную действительность – улицы, зонтики, яблоки. В этой эпохе было нечто определенное и отчетливое, напомнившее Орландо восемнадцатый век, хотя в ней появилось и нечто отвлеченное, отчаянное – и безмерно длинный тоннель, по которому она путешествовала сотни лет, расширился, отовсюду хлынул свет, и мысли ее таинственным образом подтянулись и напряглись, словно настройщик фортепьяно вставил ей в спину ключ и туго натянул все нервы; кроме того, слух обострился, и теперь она различала каждый шепот и шорох в комнате, а тиканье часов на каминной полке казалось громким, как стук молотка. В течение нескольких секунд свет становился все ярче, и она видела более и более отчетливо, часы тикали громче и громче, и вдруг грянул оглушительный взрыв. Орландо подскочила, словно ее ударили по голове. И так десять раз! На самом деле часы пробили десять часов утра. Одиннадцатое октября тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Настоящий момент.
Неудивительно, что Орландо вздрогнула, прижала руку к груди и побледнела. Разве может быть страшнее открытие, что сейчас – настоящий момент? Пережить подобное потрясение возможно лишь потому, что с одной стороны нас укрывает прошлое, с другой – будущее. Впрочем, времени на раздумья у нас нет – Орландо и так ужасно опаздывает. Она спустилась по лестнице, вскочила в свой автомобиль, нажала на стартер и поехала. Ввысь тянулись высокие голубые дома, на фоне неба кое-где краснели дымоходы, дорога сияла словно серебристые шляпки гвоздей; над Орландо нависали водители омнибусов с белыми, застывшими как у статуй лицами; она замечала попрошаек, ночлежки, ящики, обитые зеленым дерматином, но не позволяла им врезаться в память ни на йоту, скользя по узкому переходу настоящего, чтобы не свалиться в бушующий внизу поток.
– Смотри, куда идешь!.. Хоть руку вытяни, да? – резко, не задумываясь выпаливала она, поскольку улицы были буквально забиты людьми, и многие переходили через дорогу, не глядя по сторонам. Они сновали и гудели возле стеклянных витрин, внутри которых мелькали отблески красного, вспышки желтого, словно там роились пчелы, подумала Орландо, потом мысль о пчелах резко оборвалась, и она увидела краем глаза, вновь обретая полноту картины, что это люди. – Смотри, куда идешь! – рявкнула она.
Наконец она подъехала к универмагу «Маршал-энд-Снэлгроув» и вошла внутрь, в полумрак и благоухание. Настоящее слетело с Орландо, словно обжигающие капли воды. Свет мерцал, поднимаясь и опадая, словно тонкие занавески на летнем ветерке. Она достала из сумочки список и начала читать странным, напряженным голосом, будто удерживая слова – ботинки на мальчика, соль для ванны, сардины – под спудом разноцветной воды из-под крана. Под лучами света они менялись. Ванна и ботинки затупились, лишившись углов, сардины заострились как пила. Так она и стояла на первом этаже универмага господ Маршала и Снэлгроува, озираясь по сторонам, вдыхая то один запах, то другой, и теряла секунды впустую. Потом вошла в лифт, поскольку дверь была открыта, и плавно поехала вверх. Теперь сама ткань жизни, думала она, преисполнилась волшебства. В восемнадцатом веке мы знали, как все устроено, теперь же я возношусь в воздух, слушаю голоса из Америки, вижу, как люди летают, но даже не представляю, как все устроено. И вера в волшебство возвращается. Лифт дернулся, остановился на втором этаже, и ей привиделись бесчисленные цветные ткани, реющие на ветру, от которых исходили отчетливые, странные запахи, и каждый раз, когда лифт останавливался и распахивал двери, ей открывался другой кусочек мира со всеми прилагающимися к нему запахами. Орландо вспомнила реку возле Уоппинга во времена Елизаветы, где бросали якорь пиратские и торговые корабли. Как богато и необычно там пахло! Как хорошо ей помнилась шероховатость рубинов, когда она пропускала их сквозь пальцы, сунув руку в мешок с сокровищами! А потом они лежали с Сьюки – или как там ее звали – и нагрянул Камберленд с фонарем! У Камберлендов теперь дом на Портленд-плейс, и на днях она обедала у них и рискнула пошутить насчет богаделен на Шин-роуд. Старик ей подмигнул. И вот уже лифт добрался до самого верха, придется выходить – бог весть в какой ей нужно «отдел», как они это называют. Орландо остановилась, чтобы свериться с листом покупок, но так и не сподобилась найти, как велел список, ни соль для ванны, ни ботинки на мальчика. И так бы и вернулась в лифт, ничего не купив, однако счастливо избежала подобной опрометчивости, машинально произнеся вслух последний пункт списка, которым оказались «простыни на двуспальную кровать».
– Простыни на двуспальную кровать, – сказала она мужчине за прилавком, и, по воле Провидения, именно их он и продавал. Поскольку Гримсдитч – нет, Гримсдитч умерла, Бартоломью – нет, Бартоломью умерла, тогда Луиза – Луиза на днях примчалась к ней в полном смятении, обнаружив прореху в простыне на королевском ложе. Там спали многие короли и королевы – Елизавета, Яков, Карл, Виктория, Эдуард, поэтому неудивительно, что простыня прохудилась. Однако Луиза была уверена, что знает, кого винить: принца-консорта!
«Грязный фриц!» – воскликнула она (снова была война, на этот раз с Германией).
– Простыни для двуспальной кровати, – рассеянно повторила Орландо, для двуспальной кровати с серебряным покрывалом, в комнате, обставленной со вкусом, который теперь казался ей немного вульгарным: все в серебре, но в те времена серебро ей чрезвычайно нравилось. Пока мужчина ходил за простынями, она вынула из сумочки зеркальце и пуховку. Женщины стали гораздо раскованней, подумала она, небрежно обновляя макияж, чем в те дни, когда она стала женщиной и лежала на палубе «Влюбленной леди». Придав носику нужный оттенок, она убрала зеркальце. Щеки она не трогала никогда. Честно говоря, в свои тридцать шесть Орландо едва ли выглядела старше. Все такая же – с пухлыми губками, сердитая, красивая, цветущая (словно Рождественская елка в тысячу свечей, говорила Саша), как