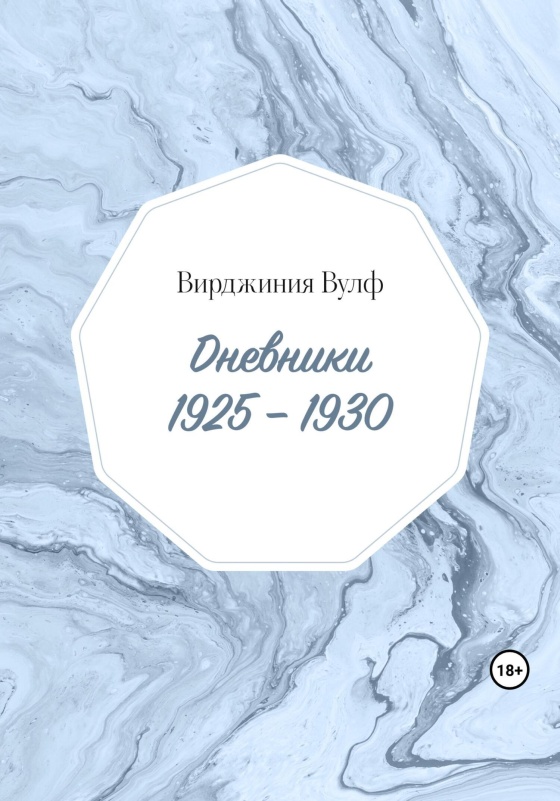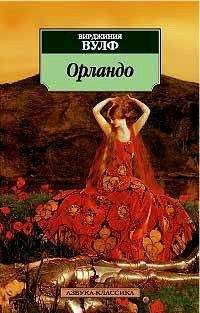в тот день, когда Темза замерзла и они удрали кататься на коньках…
– Лучший ирландский лен, мэм, – объявил продавец, расстилая простыни на прилавке.
…И они встретили старушку, собиравшую хворост. Пока Орландо рассеянно перебирала белье, створка двери между отделами распахнулась и впустила, наверное, из отдела галантерейных товаров, дуновение с нотками воска, как от розовой свечи, и аромат закрутился, словно раковина, вокруг фигуры – юноши или девушки? – юной, стройной, соблазнительной – девушка, ей-богу! – укутанной в меха, в жемчугах, в русских шароварах, но ведь она обманщица, неверная обманщица!
– Обманщица! – вскричала Орландо (мужчина ушел), и магазин заполнился желтой водой, вдалеке мелькнули мачты русского корабля, уходящего в море, и тогда чудесным образом (вероятно, дверь снова открылась) раковина, которую создал аромат, превратилась в платформу, в помост, и с него сошла тучная женщина в мехах, удивительно хорошо сохранившаяся, соблазнительная, в диадеме, любовница великого князя – та, что поедала на палубе сэндвичи и, перегнувшись через борт, наблюдала, как в волнах Волги тонут люди – и двинулась ей навстречу.
– Ах, Саша! – вскричала Орландо. Ее в самом деле поразило, что так и вышло – Саша расплылась, осоловела, и она склонилась над прилавком с бельем, чтобы не видеть, как за спиной проходит призрак седовласой женщины в мехах и девушки в русских шароварах, вкупе со всеми запахами восковых свечей, белых цветов и старых кораблей.
– Предложить вам салфетки, полотенца, пыльники, мэм? – наседал продавец.
И лишь благодаря списку покупок, с которым сверилась Орландо, она смогла с величайшим самообладанием ответить, что единственное, чего ей недостает в этой жизни, – соль для ванн, которая продается в другом отделе.
Спускаясь на лифте – таково коварное повторение любого эпизода, – она вновь выскользнула за пределы настоящего момента, и когда лифт стукнулся о землю, ей послышалось, что о берег реки разбивается кувшин. Позабыв про поиски нужного отдела, она стояла среди сумочек, как зачарованная, глухая к предложениям любезных, одетых в черное, прилизанных, бойких приказчиков, которые несомненно прибыли, причем иные с неменьшей гордостью, чем она, из глубин прошлого, однако предпочли укрыться за непроницаемой ширмой настоящего момента и теперь выглядели типичными приказчиками из «Маршалл-энд-Снэлгроув». Орландо застыла в нерешительности. Сквозь огромные стеклянные двери виднелся поток транспорта на Оксфорд-стрит. Омнибусы наседали друг на друга, затем вновь разъезжались. Словно ледяные глыбы на Темзе в тот самый день. На одной из них сидел верхом старик-пэр в меховых тапочках. Так и пошел на дно – он стоял перед глазами, как живой, – призывая проклятия на головы ирландских мятежников. Утонул там, где сейчас стояла ее машина.
«Время надо мной не властно, – думала Орландо, пытаясь взять себя в руки, – я словно застыла посередине. До чего же странно! Вещи уже не могут быть чем-то одним. Беру в руки сумочку и вспоминаю старую торговку яблоками, вмерзшую в лед. Кто-то зажигает розовую свечу, и я вижу девушку в русских шароварах. Выхожу на улицу, вот как сейчас – и она ступила на тротуар Оксфорд-стрит – и что за вкус ощущаю? Вкус травы. Слышу козьи колокольчики. Вижу горы. Турция? Индия? Персия?»
Глаза ее наполнились слезами.
Видя, как Орландо собирается сесть в автомобиль – вся в слезах и в грезах о персидских горах – читатель может удивиться, насколько далеко ее унесло от настоящего момента. И в самом деле, нельзя отрицать, что наиболее успешные приверженцы искусства жить, кстати, часто люди никому не известные, умудряются совмещать шестьдесят или даже семьдесят разных времен, которые сосуществуют в каждом нормальном человеческом организме, и когда часы бьют одиннадцать, все времена вторят в унисон, и при этом настоящее никуда не врывается, круша все на своем пути, и не теряется в прошлом без следа. Наверняка про них можно сказать только одно: они прожили ровно шестьдесят восемь или семьдесят два года, как написано на могильной плите. Об остальных мы знаем, что они мертвы, хотя и бродят среди нас, некоторые еще не родились, хотя и проходят через разные стадии жизни; другим – сотни лет, хотя они считают, что им только тридцать шесть. Реальная продолжительность жизни человека, что бы там ни утверждал «Национальный биографический словарь», всегда вопрос спорный. Ибо вести отсчет времени – дело трудное, и соприкосновение с любым видом искусства его тут же нарушает; вероятно, именно любовь Орландо к поэзии заставила ее позабыть про список и отправиться домой без сардин, соли для ванны или ботинок. И вот она стоит, взявшись за ручку дверцы своей машины, и настоящее бьет ее по голове. Оно наносит одиннадцать жестоких ударов.
– Будь ты неладно! – восклицает Орландо, ибо для нервной системы это огромный стресс – слышать, как бьют часы, и пока нам больше нечего о ней сказать, разве что можно отметить, что она слегка нахмурилась, мастерски переключила передачу и вновь резко выпалила, как раньше: «Смотри, куда идешь!», «Ну же, или туда, или сюда!», «Так бы и сказал!», пока автомобиль мчится, лавирует, втискивается и скользит по Риджент-стрит, по Хэймаркету, по Нортумберленд-авеню, через Вестминстерский мост, то влево, то вправо, то снова прямо…
В четверг, одиннадцатого октября тысяча девятьсот двадцать восьмого года, Олд-Кент-роуд была очень загружена. Люди не помещались на тротуаре. Женщины несли полные сумки. Дети выбегали на дорогу. В магазинах тканей шли распродажи. Улицы расширялись и сужались. Длинные перспективы городского ландшафта неуклонно сжимались. Там – рынок. Там – похороны. Там – процессия с транспарантами, на которых виднелись буквы: «Ра – Со» и что-то еще. Мясо выглядело очень красным. Мясники стояли в дверях лавок. Женщины сбивали каблуки. «Амор Вин» – вывеска над крыльцом. Женщина смотрела из окна спальни, очень задумчивая и неподвижная. «Эпплджон» и «Эпплбед», «Андерт»… Ничего не разобрать или не прочесть от начала до конца. Любой эпизод – двое друзей идут навстречу друг другу через улицу – обрывался. Через двадцать минут ее тело и разум превратились в клочья рваной бумаги, сыпящиеся из мешка, и в самом деле, быстрая езда на автомобиле по Лондону настолько напоминает расщепление личности, которое предшествует забытью и даже смерти, что вопрос о том, существовала ли наша героиня в настоящем моменте или нет, остается открытым. В самом деле, речь могла бы зайти о полном распаде личности Орландо, если бы наконец справа не появилась зеленая завеса, и клочья бумаги посыпались медленнее, затем такая же завеса возникла слева, и стали различимы отдельные обрывки, кружащиеся в воздухе, а потом зеленые завесы потянулись по обе стороны дороги, и разум вновь обрел иллюзию целостности, и она увидела сельский домик, ферму и