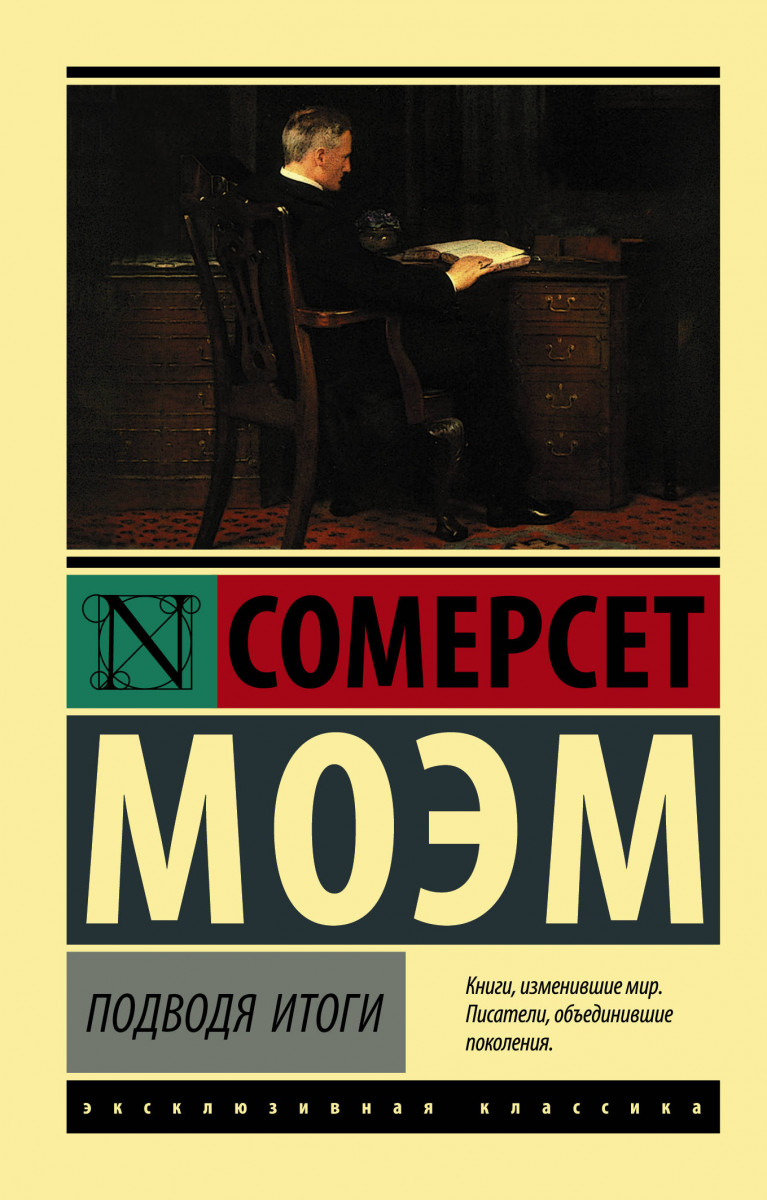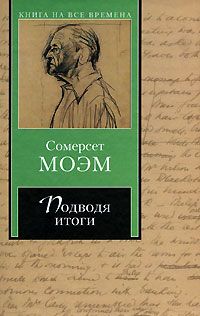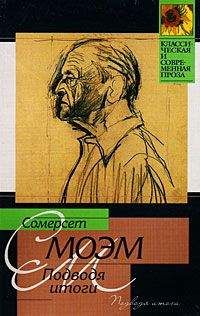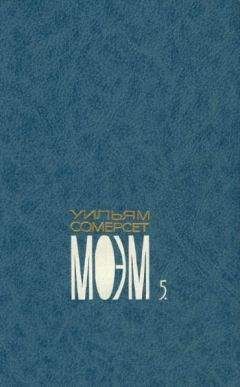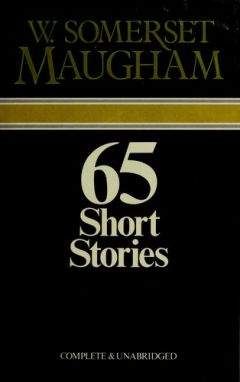id="id71">
Отвергнув, таким образом, существование бога и возможность жизни после смерти как гипотезы слишком сомнительные, чтобы ими руководствоваться, нужно решать, в чем же смысл и назначение жизни. Если со смертью все кончается, если нечего надеяться на загробные блага и бояться загробного зла, я должен спросить себя, зачем я здесь и как мне в таком случае себя вести. На один из этих вопросов ответить легко, но ответ так неприятен, что большинство людей предпочитает от него уклоняться. Ни цели, ни смысла в жизни нет. На короткое время мы становимся обитателями крошечной планеты, вращающейся вокруг небольшой звезды, которая, в свою очередь, входит в одну из несчетных галактик. Может быть, только на одной этой планете есть жизнь, а может быть, и другие планеты в других точках вселенной имели возможность создать среду, благоприятную для той субстанции, из которой, как предполагается, постепенно, с течением долгого, долгого времени создавались мы, люди. И если астрономы говорят правду, всякая жизнь на Земле когда-нибудь прекратится, и в конце концов вселенная придет в состояние последнего равновесия, когда уже ничто больше не будет случаться. За много эонов до этого исчезнет человек. Так не все ли равно тогда будет, что когда-то он существовал? Он останется главой в истории вселенной, такой же неинтересной, как та глава, где рассказано о жизни диковинных чудовищ, населявших первобытную землю.
Вот я и должен спросить себя, как все это касается меня лично и как мне ко всему этому относиться, если я хочу наилучшим образом использовать свою жизнь и извлечь из нее возможно больше. И тут говорю не я, тут говорит глубоко заложенное во мне, как и во всяком человеке, упрямое стремление существовать; говорит эгоизм, унаследованный всеми нами от той изначальной энергии, которая в незапамятном прошлом дала первый толчок и пустила машину в ход; говорит потребность самоутверждения, которая есть во всем живом и благодаря которой оно остается живым. Это – самая сущность человека. Удовлетворение ее и есть то самоудовлетворение, о котором Спиноза сказал, что это – высшее, на что мы можем надеяться, ибо «никто не стремится сохранять свое существование ради какой-то посторонней цели». Мы можем предположить, что сознание, когда оно впервые затеплилось в человеке, было орудием, позволяющим ему установить отношения со своей средой, и что на протяжении долгих веков оно не развивалось больше, чем это было необходимо человеку для решения насущных практических задач. Но с течением времени сознание, видимо, переросло эти непосредственные его нужды, и, когда возникло воображение, человек раздвинул рамки своей среды, так что она уже стала включать невидимое глазу. Нам известно, какие ответы он в то время давал на волновавшие его вопросы. Энергия, бушевавшая в нем, была так велика, что он не мог даже допустить сомнения в собственной значительности; его эгоизм был до того всеобъемлющ, что он не мог представить себе возможность полного своего исчезновения. Многих эти ответы удовлетворяют и по сей день. Они придают жизни какой-то смысл и успокаивают человеческое тщеславие.
Люди в большинстве своем мало думают. Они не рассуждая принимают свое присутствие в мире; слепые рабы той силы, которая ими движет, они мечутся во все стороны, стремясь удовлетворить свои естественные побуждения, а когда сила иссякает – гаснут, как пламя свечи. Они живут чисто инстинктивно. Возможно, в этом проявляется высшая мудрость. Но как быть, если ваше сознание развилось настолько, что некоторые вопросы не дают вам покоя, а старым ответам на них вы не верите? Как вы сами ответите на них? На один из этих вопросов двое из умнейших людей, когда-либо живших на земле, дали свои собственные ответы. Вдумавшись в них, понимаешь, что значат они примерно одно и то же, и значат не так уж много. Аристотель сказал, что цель человеческой деятельности – поступать правильно, а Гёте – что секрет жизни в том, чтобы жить. Гёте, как я понимаю, имел в виду, что наилучшим образом использовать свою жизнь – значит добиваться самовыражения; он не очень-то почтительно относился к тем, чьей жизнью управляют мимолетные прихоти и несдерживаемые инстинкты. Но трудность самовыражения, то есть доведения до высшей степени совершенства всех заложенных в тебе способностей, с тем чтобы получить от жизни все удовольствие, всю красоту, интерес и эмоции, какие она может дать, – эта трудность заключается в том, что твою деятельность все время ограничивают претензии других людей; и моралисты, заинтригованные этой теорией, но страшащиеся ее последствий, пролили немало чернил, пытаясь доказать, что наиболее полно человек выражает себя в самопожертвовании и отказе от своих интересов. Этого Гёте, во всяком случае, не имел в виду, и это представляется мне неверным. Мало кто станет отрицать, что самопожертвование доставляет большую радость, и поскольку оно открывает новое поле деятельности и дает человеку возможность развить еще одну сторону своего «я», постольку оно ценно для самовыражения; но если стремиться к самовыражению только в той мере, в какой оно не мешает попыткам других людей достичь той же цели, далеко не уйдешь. Цель эта требует некоторой жестокости и поглощенности собой, которая оскорбительна для других и потому часто сама себя сводит на нет. Хорошо известно, что многих людей, сталкивавшихся с Гёте, возмущало его холодное себялюбие.
В том, что я не пожелал слепо идти по стопам людей, которые много меня умнее, можно усмотреть самомнение. Но, как мы ни походим друг на друга, все же двух совершенно одинаковых людей не существует (свидетельство тому – отпечатки пальцев), и я не вижу причин, почему бы мне было по мере сил не постараться выбрать собственный путь. Я пытался составить себе программу жизни. Это, вероятно, можно расценить как самовыражение, сдобренное изрядной долей иронии, – все, на что я был в то время способен. Но тут есть один вопрос, который я обошел, когда касался этого предмета в начале книги; да и теперь, когда избежать его уже нельзя, я невольно перед ним робею. Я сознаю, что в некоторых своих рассуждениях принимал свободу воли как данность; я говорил так, будто в моей власти осуществлять мои замыслы и направлять мои поступки, как мне вздумается. А в других случаях я говорил так, словно принимаю детерминизм. Такие шатания были бы недопустимы, если бы я писал философский труд. Я на это не претендую. И можно ли ожидать, чтобы я, дилетант, разрешил вопрос, о котором до сих пор спорят философы?
Казалось бы, разумнее всего не ломать