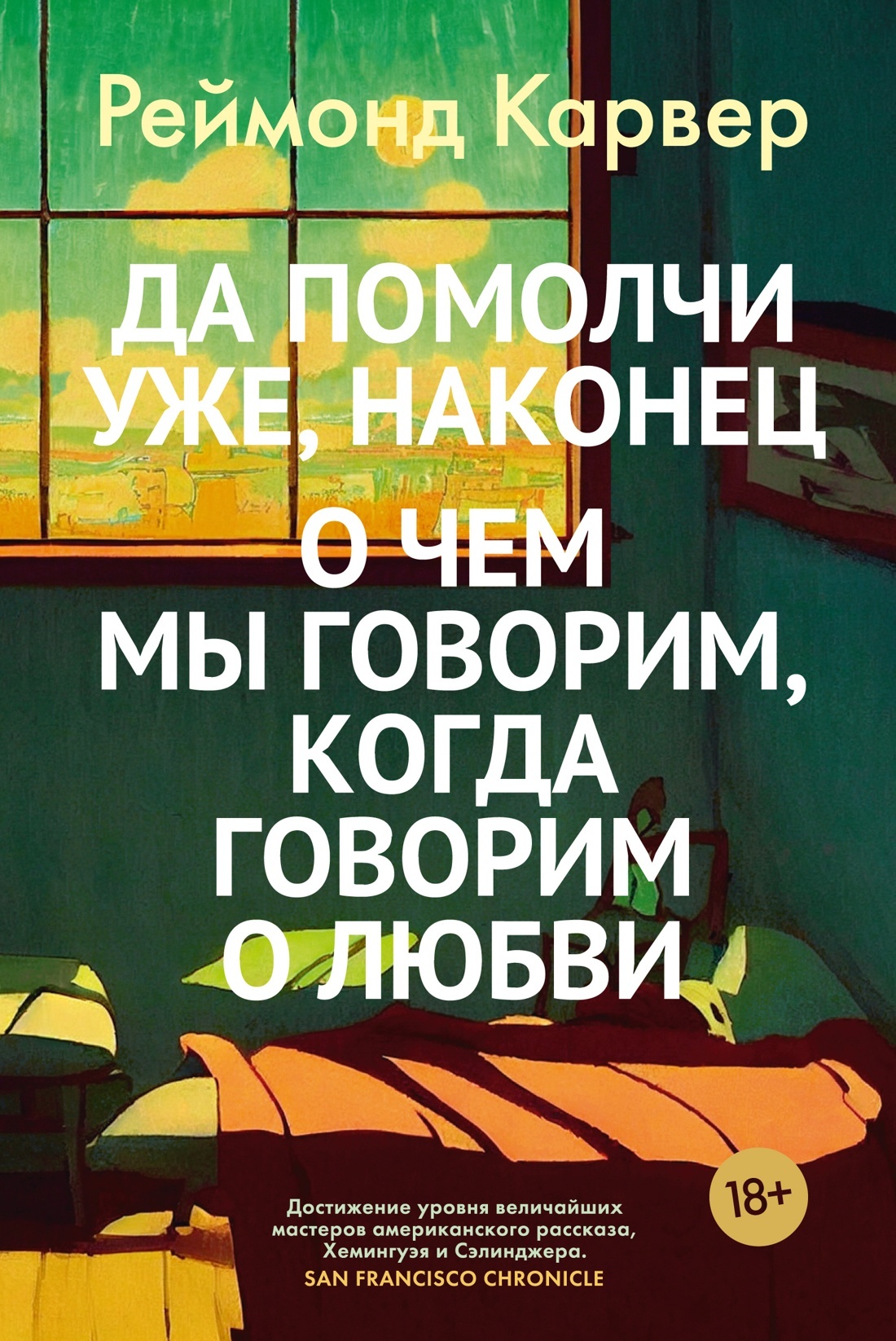серебрянка. Вот, считай, и все, разве что еще в некоторые реки поздней осенью заходили лосось и стальноголовка. Хотя, если ты рыбак, и у нас найдешь чем заняться. Окуня вообще никто не ловил. Большинство моих знакомых видели его разве что на картинках. А вот отец мой на него насмотрелся, потому что рос он в Арканзасе и в Джорджии, и у него на этих окуней, которые у Пня, были большие планы, потому что отношения у них с Пнем были приятельские.
В тот день, когда привезли рыбу, я отправился поплавать в городской бассейн. Я помню, как вернулся домой, а потом снова пришлось выходить, потому что отец пообещал помочь Пню разгрузить-погрузить эти три бака, доставленные почтой из Батон-Руж, штат Луизиана.
Поехали мы на Пневом пикапе, отец, Пень и я.
Оказалось, там не баки, а настоящие бочки, три штуки, каждая в отдельной сосновой клети. Они стояли в тени у стены товарной станции, и поднять такую клеть и поставить ее в кузов отец и Пень могли только вдвоем.
По городу Пень вел машину очень осторожно, а потом точно так же мы ехали и всю дорогу до его дома. Через двор он проехал не останавливаясь. И затормозил только у самого пруда, в футе от кромки воды. К тому времени уже почти совсем стемнело, он оставил фары включенными, достал из-под сиденья молоток и долото, а потом они вдвоем подтащили клети поближе к воде и стали открывать первую.
Внутри бочка была обернута мешковиной, а в крышке были маленькие, размером с пятицентовую монету, дырочки. Они сняли крышку, и Пень посветил фонариком внутрь.
Мне показалось, что этих окуневых мальков там плавает целый миллион. Зрелище было просто невероятное, они там буквально кишмя кишели, как будто поездом нам доставили маленький такой океан.
Пень подволок бочку к воде и вылил. Потом взял фонарик и посветил в воду. Но там уже ничего не было видно. Слышно было, как надрываются лягушки, но они каждый день надрываются, как стемнеет.
– Давай я остальные вскрою, – сказал отец и протянул руку, чтобы взять у Пня из накладного кармана молоток; но Пень отступил и замотал головой.
Две оставшиеся клети он вскрыл сам, сбивая себе пальцы и оставляя на планках темные пятна крови.
С той самой ночи Пень переменился.
Он больше никого не подпускал к своему участку. Вокруг выгона он выстроил изгородь, а потом огородил и пруд – забором из колючей проволоки, и пропустил по ней ток. Говорят, на этот забор ушли все его сбережения.
Отец, понятное дело, после такого с Пнем знаться перестал. Потому что Пень его не пустил. Даже не порыбачить, окунь-то был еще мелкий. Но и просто посмотреть Пень его не пускал.
Однажды вечером два года спустя, когда отец работал во вторую смену, я принес ему ужин и бутылку чая со льдом и увидел, что он стоит и разговаривает с Сидом Гловером, наладчиком. Я вошел и услышал, как отец сказал:
– Можно подумать, этот дебил женился на этой своей рыбе.
– Судя по тому, что мне рассказывали, – сказал Сид, – лучше бы он вокруг дома забор себе выстроил.
Тут отец увидел меня, и я заметил, как он сделал Сиду Гловеру глазами знак.
Но еще месяцем позже отец Пня все-таки пропилил. Просто объяснил ему, что нужно отбраковывать слабый молодняк, чтобы остальной рыбе жить было легче. Пень стоял, тер ухо и смотрел в пол. Отец сказал: ну, значит, завтра приеду и все сделаю, потому что иначе никак. В общем-то, согласия на это Пень не выразил. Он просто не выразил несогласия, и все. Просто потер ухо еще раз.
Когда в тот день отец вернулся домой, я был уже наготове. Я достал его старые окуневые блесны и пробовал тройнички пальцем.
– Готов? – спросил он, выйдя из машины. – Я в туалет, а ты давай загружай все это хозяйство. Если хочешь, можешь сесть за руль.
Я сложил все на заднем сиденье и как раз начал примеряться к рулю, когда он вернулся: в рыболовной шляпе, с куском пирога, который он ел на ходу, держа его обеими руками.
Мать стояла в дверях и смотрела. Кожа у нее была белая, светлые волосы стянуты в тугой узел и схвачены заколкой с горным хрусталем. Я до сих пор не знаю, гуляла ли она с кем-нибудь в те счастливые деньки; да и вообще не слишком много про нее знаю.
Я снял машину с ручника. Мать смотрела на нас, пока я не включил первую скорость, а потом, все так же без улыбки, ушла обратно в дом.
День выдался замечательный. Мы опустили все стекла, чтобы продувало ветерком. Переехали через мост Мокси и свернули на запад, на Слейтер-роуд. По обе стороны шли поля люцерны, потом началась кукуруза.
Отец выставил руку из окна и играл с ветром. Ясно было, что на душе у него неспокойно.
До Пня ехать было недалеко. Он вышел из дому нам навстречу, в шляпе. Его жена смотрела на нас из окна.
– Ну что, сковородку приготовил? – крикнул отец Пню, но тот просто стоял и пялился на машину.
– Эй, Пень, – заголосил отец. – Эй, Пень, где твоя удочка?
Пень быстро закивал. Перенес вес с одной ноги на другую, посмотрел в землю, а потом на нас. Кончик языка у него лежал на нижней губе, а сам он принялся ковырять ногой землю.
Я закинул на плечо корзину для рыбы. Протянул отцу спиннинг, потом взял свой.
– Ну что, идем? – сказал отец. – Эй, Пень, мы идем?
Пень снял шляпу, а потом, запястьем той же руки, утер с головы пот. Он резко развернулся, и мы пошли за ним по пружинистой траве на выгоне. Примерно через каждые двадцать шагов из густой травы, разросшейся на отвалах в конце старых борозд, взлетали бекасы.
В конце выгона начинался небольшой откос, земля стала сухой и каменистой, и по ней там и сям были разбросаны кусты крапивы и каменные дубы. Мы двинулись по уходящей вправо старой колее от пикапа, сквозь доходящие нам до пояса заросли молочая, сухие стручки на верхушках стеблей раздраженно дребезжали. Вскоре, у Пня поверх плеча, я увидел блеск воды, и тут же отец закричал:
– Господи, ты только посмотри на это!
Но Пень замедлил шаг, и рука у него заходила вверх-вниз, то сдвигая шляпу на затылок, то снова возвращая ее на место; потом он и вовсе замер как вкопанный.
– Ну, что скажешь, Пень? – спросил отец. – Не рыбных мест здесь вроде нет? Откуда нам, по-твоему, лучше начать?
Пень облизнул нижнюю губу.
– Да что с тобой такое, Пень? – спросил отец. – Это ведь