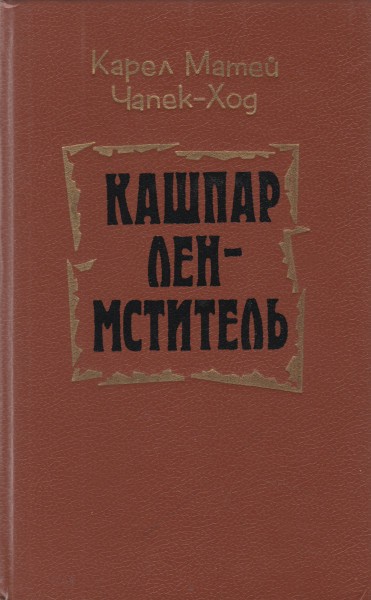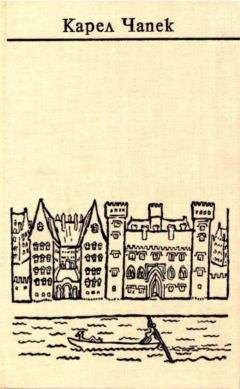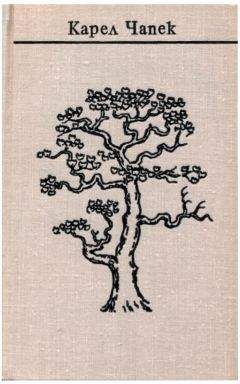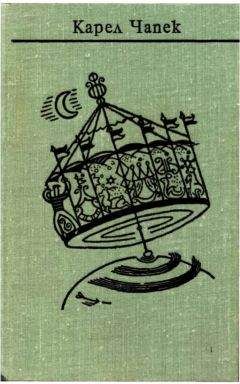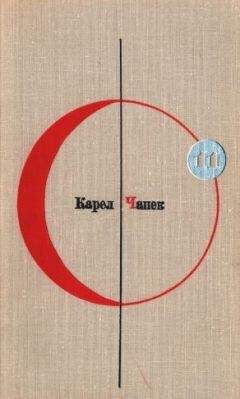голову, стал теребить пальцами жиденький кончик светлого уса.
— «Alto Adige», — хмуро прочел хозяин название одной из размокших от винограда и испещренных красными пятнами газет, которыми чемоданчик был выложен изнутри.
— Вот оно, значит, как, — помолчав, сказал Лен с деланным равнодушием, чтобы не подумали лишнего.
Наступила неловкая пауза. Наконец рассыльный, прервав затянувшееся изучение газет, в которых он, конечно, не понимал ни слова, снял пенсне, и два огонька, игравшие на его лице, задрожали теперь под стеклами на натруженной, мозолистой руке с большущими узловатыми пальцами.
— Газетки-то из Италии, — сказал он, но, увидев выражение лица Лена, тотчас изменил тон и продолжил:
— Мы сказали вам, что знаем, хотя, может, этого не следовало делать! Огорошили вас, но вы же сами спросили. Никто не вправе судить ближнего, у каждого своя судьба, каждому свое на роду написано. Я, знаете ли, сплетен не собираю, это дело бабье, мы с ними соседствовали недолго, на девчонку я как-то внимания не обращал, а в этакие места не хожу...
Он, вероятно, продолжал бы говорить в том же духе, но Лен перебил:
— Не буду вас задерживать, время позднее.
— Ну, спасибо за виноград! — остановила его сладким, вкрадчивым голоском мать семейства. — Не гневайтесь, ежели сболтнула лишнее. Вы все равно узнали бы об этом.
— Прощайте! — вырвалось из пересохшего горла Лена, и он тронул было ручку двери, но решил, что этого маловато, откашлялся и прибавил:
— Спокойной ночи!
Хозяин с лампой в руках проводил его до самой лестницы, и тут Лен обернулся:
— Не беспокойтесь, я ведь ходил здесь впотьмах в любое время...
С минуту они молча стояли друг против друга, и рассыльный, разглядывая Лена через пенсне, повисшее у него на кончике носа, заметил, что молодой резервист смущен.
Лен покопался за отворотом солдатской шапки и достал две толстые, набитые темным табаком сигареты. Одну предложил хозяину, другую прикурил от огня лампы.
— Ага, из Риволи, — со знанием дела произнес хозяин. — Там все еще промышляют контрабандой?
Дымя так, что лицо его и разглядеть было трудно, Лен торопливо и как бы доверительно произнес:
— Чтоб все было ясно, я вам объясню. У Криштофов остались кое-какие мои инструменты, поэтому мне все же хотелось бы узнать, где они теперь живут, а сообщить их адрес может ведь только... только та девушка...
— А, черт возьми, инструмент, строительный инструмент, голова у меня никудышная... Конечно, они здесь оставили его. Можете посмотреть хоть сейчас. Как это я сразу не сообразил!
С этими словами он толкнул локтем дверь пустой комнаты и, когда та со скрипом отворилась, посветил Лену, держа лампу над головой. Там, в углу, действительно лежали инструменты: мастерки, молоток, отвес, уровень, миска для цемента и несколько длинных, перевязанных бечевкой линеек, какими пользуются штукатуры.
— Я бы отдал вам их безо всякого, — сказал неожиданный приятель, хотя Лен вовсе не походил на человека, порывающегося сейчас же забрать свою собственность. — Но, сами понимаете, без дворника нельзя. Приходите лучше завтра.
Лен, однако, все стоял столбом и дымил, как паровоз.
Рассыльный внимательно посмотрел на Лена; в глазах его мелькнула искра понимания, и он сказал шепотом:
— Возле цейхгауза, сразу за углом, на Красной улице...
Лен от растерянности опять сунул пальцы за отворот шапки и подал ему еще одну толстую сигарету. Срывающимся голосом он второй раз сказал:
— Прощайте! — и быстро ушел.
— С чемоданчиком-то как быть? — крикнул вдогонку рассыльный, но Лен давно уже был на дворе.
Оказавшись у ворот, Лен в сотый раз с той минуты, как снял солдатскую форму, попробовал привести цивильное, снятое три года назад платье в соответствие со своей фигурой, однако ему так и не удалось полностью закрыть кургузой жилеткой впалый живот, да и из рукавов пиджака высовывались чуть не до локтя его худые, жилистые руки.
Щуря глаза от едкого дыма грошовой итальянской сигареты, Лен читал надпись на освещенной красной сигнальной лампочкой табличке, что висела напротив:
«Строительство дома Индржиха Конопика...»
Съежившись от дождя, Лен уставился на мокрую дощечку, отсвечивающую красным. В Праге после благодатного Тренто его все время познабливало.
— Индржиха Конопика, — прошептал он, и это имя заставило его двинуться с места. Отойдя немного от ворот, он опять увидел то же имя на непомерно большой вывеске ярко освещенного магазинчика.
«Индржих Конопик, торговец колониальным товаром...»
— Ей-богу, это он! Гляди-ка, купил как раз напротив! — сам себе сказал Лен. — Выходит, можно прямо сейчас спросить насчет работы.
Он несколько раз прошел мимо лавки. Ему было не по себе.
«Это не по-нашему, говорить с владельцем, а не с мастером; мне ведь так и так придется прийти сюда завтра; да и голодный я, как собака».
Прежде чем отправиться дальше, он внимательно оглядел магазинчик. У самой стеклянной двери, склонившись над прилавком, перебирал счета мужчина. Судя по его лысому, белому, как слоновая кость, черепу, он был уже немолод.
«Ай-яй-яй, пан Конопик, — подумал Лен, — плохо же вы ухаживали эти три года за своей шевелюрой».
Ему стало смешно, но почти сразу же он ощутил боль, точно в душе его прорвался волдырь от ожога. Причину Лен знал.
Он шел вдоль самых стен, чтобы уберечься, насколько возможно, от дождя, крупными каплями гулко барабанившего по стеклам фонарей, внутри которых, точно пришпиленные бабочки, трепетали языки горящего газа. Ветер, проносясь улицей, по очереди хлестал дребезжащие фонари.
Лен шел долго, то и дело одергивая куцую жилетку, пока не остановился возле захудалой колбасной лавки. И, как это бывает у всех работяг, в ту же минуту желудок его разгадал, что пришел час еды, и у Лена засосало под ложечкой. Он нащупал в карманчике жилетки три золотых и немного мелочи.
Из лавки Лен вышел с большущим свертком чего-то, видимо, аппетитного, сунул голову в газету, откуда вожделенный кус чернел, как пласт земли, и впился в него зубами. Он так увлекся едой, что вышел на проезжую часть дороги, где и завершил свой пир, расправившись с изрядной краюхой хлеба, пережевывая куски размером чуть ли не с кулак.
Почерневшую от жирных пятен газету он нес теперь в опущенной руке, зажав ее двумя пальцами и дожевывая свой ужин, пока от хлеба не остался обглоданный