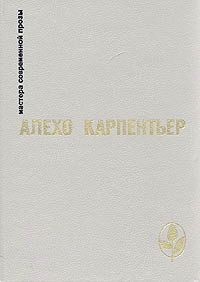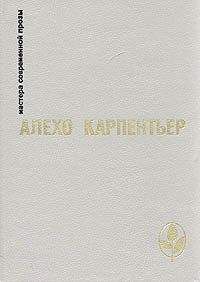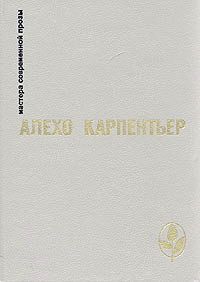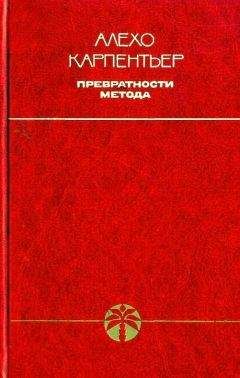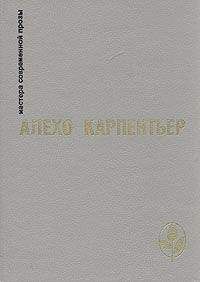зарождающегося дня. И прежде всего, конечно, мне не терпится всем телом прильнуть к Росарио, и почувствовать тепло ее тела, и почти с болью ощутить, как забьется во мне желание… Я улыбаюсь, думая о том, что мне удалось ускользнуть от Гидры, сесть на Корабль Арго, а та, что обозначается знаком Волос Вероники, должно быть, на склонах холма, к которому подступили воды потопа, в эту пору, когда миновали дожди, собирает травы и растирает их в сосудах, превращая в пузырящиеся снадобья; а потом ставит их вызревать под свет луны и на холодную предутреннюю росу. Я возвращаюсь к ней, еще яснее, чем прежде, понимая, что люблю ее; потому что я прошел новые испытания, потому что вокруг я видел лишь лицедейство и притворство. И, кроме того, возникает еще один вопрос, исключительно важный для моего странствия по царству этого мира: в конечном счете на него есть один-единственный ответ, и тут нет дилеммы, – я хочу знать, могу ли я сам располагать своей жизнью или другие будут располагать ею, превратив меня в первого или последнего гребца на галерах в зависимости от того, как я решу: жить самому по себе или служить им. В Святой Монике – Покровительнице Оленей до тех пор, пока глаза мои будут открыты, мои часы будут принадлежать мне. Я сам буду хозяином своих шагов и смогу направить их куда захочу.
(9 декабря)
Солнце едва вышло из-за деревьев, когда мы пристали к шахте греков; шахта была заброшена, а дом пуст. Я был здесь всего семь месяцев назад, а теперь сельва захватила все. Хижину, в которой я первый раз обнимал Росарио, в полном смысле слова разворотила растительность, пробившаяся изнутри; она подняла потолок и развалила стены, а стебли растений, покрывавшие крышу, превратились в груду сухих листьев и ворох гнили. К тому же последнее половодье было особенно обильным, и потому земля все еще затоплена водой. Дожди в этом году выпали не в обычное время, воды еще не опали, и вдоль всего берега виднеется полоса мокрой земли, покрытая мусором, который река нанесла из сельвы; над этим мусором вьются мириады желтых бабочек, вьются густой тучей, так что достаточно рассечь палкой воздух, чтобы палка окрасилась в желтый цвет. Глядя на них, я понимаю, откуда берутся переселения вроде тех, которые мне пришлось увидеть в Пуэрто-Анунсиасьон, когда небо потемнело от бескрайней крылатой тучи. Неожиданно вода вокруг заклокотала, и целый косяк рыб, которые выпрыгивают из воды, ударяются и наталкиваются друг на друга, переваливают через наше каноэ; река сразу ощетинивается свинцовыми плавниками и хвостами, которые хлопают, напоминая аплодисменты. Вверху треугольником пролетает стая цапель, и тут же, словно по какому-то знаку, начинается концерт птиц, населяющих сельву. Эта вездесущность птицы, взметнувшей крыло над ужасами сельвы, снова заставляет меня подумать, какую важную и разнообразную роль играет птица в мифологии мира. Начиная птицей-духом эскимосов, которая каркает на самом севере континента, ближе всех остальных птиц подобравшись к полюсу, и кончая головами, летающими на своих ушах-крыльях над Огненной Землей, – только и видишь берега, украшенные деревянными изображениями птиц, птиц, нарисованных на камнях и начертанных на земле, таких огромных, что смотреть на них надо с горы; повсюду вокруг нас переливающийся парад этих владык воздушного пространства: птица-гром, орел-роса, птица-солнце, кондор-посланник, ара-метеор, парящий над ширью Ориноко, сенсотли и кецали, и над всеми великая троица – пернатые змеи – Кецалькоатль, Кукумац и Кукулькан.
Мы уже опять пускаемся в путь, и, когда над желтыми бурными водами встает душный полдень, я указываю Симону налево, на деревья, непроходимой стеной запирающие берег и уходящие вдаль насколько хватит глаз. Мы приближаемся к этой стене и теперь плывем медленно, отыскивая знак, который отмечает вход в протоку, проходящую сквозь сельву. Внимательно глядя на стволы, я отыскиваю – на уровне груди человека, если бы тот выпрямился над гладью воды, – отыскиваю те самые три буквы V, вертикально вставленные одна в другую, – рисунок, который можно продолжить до бесконечности. Время от времени Симон, который теперь гребет очень медленно, спрашивает, нашел ли я зарубку. Мы двигаемся дальше. Я так стараюсь смотреть, так стараюсь не пропустить, не оторваться, сосредоточиться только на этом, что проходит немного, и глаза мои устают смотреть на одни и те же стволы. Меня уже начинают одолевать сомнения, быть может, я уже видел его, не отдав себе в этом отчета; быть может, как раз в это время я на несколько секунд отвлекся; и я предлагаю Симону вернуться обратно, но обнаруживаю там лишь светлое пятно на коре или солнечный луч. Симон, не теряя спокойствия, беспрекословно выполняет мои указания. Каноэ продвигается, задевая бортом стволы деревьев, и мне приходится время от времени отталкиваться, упираясь в дерево острием мачете. И от этих поисков знака на бесконечном количестве совершенно одинаковых стволов у меня кружится голова. Однако я говорю себе, что занятие это вовсе не пустое: ни на одном из стволов не было еще ничего похожего на три вложенные друг в друга буквы V. Он существует, этот знак, и то, что написано на коре, никогда не стирается, а потому мы обязательно найдем его. Мы плывем еще с полчаса. И вот из сельвы поднимается черная скала таких своеобразных изломанных очертаний, что, случись нам в прошлый раз добраться сюда, я бы вспомнил ее сегодня. Совершенно очевидно, что вход в канал остался позади. Я делаю знак Симону, чтобы он развернул каноэ и плыл обратно. Я представляю, как он иронически смотрит на меня, и это раздражает меня не меньше, чем собственное нетерпение. Поэтому я поворачиваюсь к нему спиной и продолжаю внимательно осматривать стволы. Если я пропустил, не заметил знака, то теперь, когда мы плывем мимо этой растительной стены второй раз, я обязательно замечу его. Там были два ствола, поднимавшиеся словно косяки узкой двери. А притолока была из листьев, и на середине левого ствола – знак. Когда мы начали путь, солнце стояло над самой головой. Теперь, обратно, мы плывем в упавшей на воду тени, которая становится все длиннее. Я думаю, что ночь может наступить прежде, чем мы отыщем проход, что нам придется возвращаться сюда завтра, и оттого моя тревога растет. Сама по себе неудача не так велика. Только теперь я счел бы это дурным знаком. В последнее время все складывалось так удачно, что я не хочу мириться с этой нелепой помехой. Симон по-прежнему наблюдает за мной с добродушной иронией. Наконец, чтобы что-нибудь сказать,