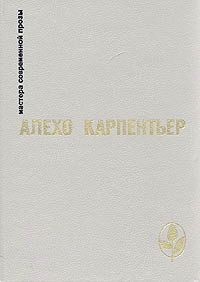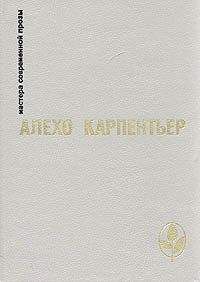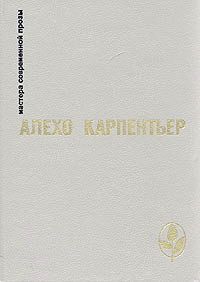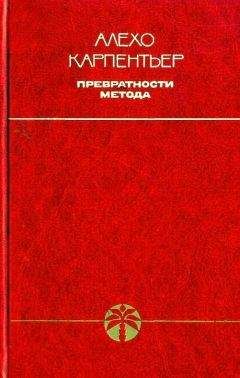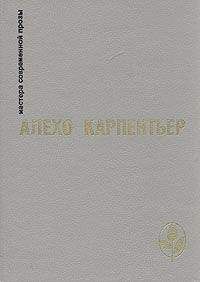он указывает мне на деревья, ничем не отличающиеся от остальных, и спрашивает, не там ли ход. «Может быть», – отвечаю я, хорошо зная, что там нет никакого знака. «Может быть – так суд не постановляет», – назидательно замечает тот, и в этот самый момент я падаю от толчка на дно каноэ, застрявшего в сети лиан. Симон поднимается, берет шест и погружает его в воду, чтобы, упершись в дно, подать каноэ назад. И в этот самый миг, в ту секунду, пока погружается шест, я понимаю, почему мы не нашли знака и не сможем его найти: шест длиною в три метра не достал дна, и моему спутнику приходится взяться за мачете и рубить лианы. А когда мы снова пускаемся в путь, он вдруг с участием наклоняется ко мне, видимо решив, что случилось какое-то несчастье, – такой, верно, у меня убитый вид. Я вспоминаю, что, когда мы были здесь с Аделантадо,
весла все время доставали до дна. Это значит, что река все еще не вошла в берега и что
знак, который мы ищем, находится под водой. Я рассказываю Симону, о чем только что догадался. Он отвечает мне со смехом, что это уже приходило ему в голову, однако «из уважения» он не сказал мне ничего; к тому же он думал, что, отправляясь на поиски знака, я помнил о том, что река поднялась. И, страшась ответа, я спрашиваю его, запинаясь, скоро ли, он считает, воды спадут настолько, чтобы мы, как в прошлый раз, смогли разглядеть знак. «Теперь до апреля или мая», – отвечает он, и я понимаю, что это неотвратимо. Итак, до апреля или до мая закрыта для меня узкая дверь в сельву. Я вдруг понимаю, что я, вышедший победителем из испытания ночными страхами и испытания бурей, подвергся решающему испытанию: искушению вернуться назад. Это Рут с другого конца мира направила ко мне посланцев, которые в одно прекрасное утро упали с неба, – посланцы с желтыми стеклянными глазами и рациями на шее явились сказать, что вещи, которых мне не хватает, чтобы выразить себя, находятся от меня в трех часах лета. И я, к удивлению людей неолита, поднялся к облакам за пачками бумаги, не подозревая, что на самом деле меня похищает женщина, догадавшаяся каким-то таинственным образом, что сможет заполучить меня, только использовав крайние меры.
В последние дни я все время чувствовал рядом с собой присутствие Росарио. Порою, по ночам, мне казалось, что я слышу, как она рядом тихо дышит во сне. Теперь же, поняв, что знак скрыт от моих глаз и дверь для меня заперта, я сразу чувствую, что и Росарио становится дальше. Ища облегчения, я высказываю горькую правду Симону, который слушает и не понимает меня: я говорю, что небывалые дороги открываются неожиданно и неосознанно, и в этот миг никогда не отдаешь себе отчета в том чудесном, что выпало на твою долю; тебе повезло зайти далеко, где нет проторенных путей и где не успели еще все поделить между собою, но тут случается, что открытые дары начинают кружить тебе голову, и ты, слишком возомнив о себе, воображаешь, будто способен повторить подвиг снова, когда вздумается, и стать хозяином этих путей, которые остальным заказаны. И однажды ты совершаешь непоправимую ошибку – идешь обратно, полагая, что исключительное может повториться дважды; но когда возвращаешься, обнаруживаешь, что пейзажи изменились, вехи стерлись, а прежних людей нет. Плеск весел вдруг возвращает меня к действительности, оторвав от тоскливых дум. Ночь начинает заполнять сельву, и у подножий деревьев сгущаются зудящие тучи мошкары. Симон, не слушая меня больше, выводит челн на середину течения, торопясь скорее добраться обратно, на заброшенную шахту греков.
(30 декабря)
Я работаю над текстом Шелли, упрощая некоторые места, чтобы придать ему подлинный характер кантаты. Я выкинул кое-что из длинной жалобы Прометея, которой так блистательно начинается поэма, и теперь разрабатываю сцену с голосами, в которой есть несколько неправильных строф, и диалог Титана с Землей. Но занятие – это всего лишь попытка заглушить нетерпение, отвлечься на время от единственной мысли, от единственной цели, которая заставляет меня сидеть в Пуэрто-Анунсиасьон, не двигаясь с места, уже три недели. Говорят, что вот-вот должен вернуться из плаванья по Рио-Негро один человек, хорошо знающий нужный мне путь или, во всяком случае, другие пути по воде, которые приведут меня к цели. Однако все здесь настолько свободно распоряжаются своим временем, что двухнедельное ожидание ни у кого не вызывает ни малейшего нетерпения. «Скоро… Скоро вернется», – отвечает мне карлица донья Касильда, когда в час утреннего кофе я спрашиваю у нее, нет ли каких вестей от проводника, которого я жду. Кроме того, я таю надежду, что Аделантадо вдруг понадобятся какие-нибудь лекарства или семена и он неожиданно появится здесь; потому я остаюсь в селении, не обращая внимания на соблазнительные приглашения Симона отправиться в плаванье по Северным каналам. Дни тянутся медленно, но эта неторопливость, от которой в Святой Монике – Покровительнице Оленей я чувствовал бы себя только счастливым, здесь, где я не могу сосредоточиться и работать серьезно, кажется мне тягостной. И, кроме того, мне хочется работать над «Плачем», а его наброски остались у Росарио. Я мог бы попробовать начать все заново, но начинать заново я не хочу, потому что то, что было сделано там, доставило мне большое удовольствие, ибо родилось по вдохновению, и я не хочу браться за него сейчас, когда я совершенно холоден, а мое критическое чувство обострено; я не хочу писать, напрягая память, писать, когда мысли заняты лишь тем, как бы продолжить путешествие. Каждый вечер я хожу к порогам, ложусь там на камни, сотрясаемые бурлящей водой, которая пробивается сквозь узкие щели, выбоины и теснины; мое раздражение утихает здесь, когда я остаюсь один, среди грохота, отгороженный от всего на свете этими фигурами из пены; она клокочет, все время сохраняя одну и ту же форму – форму, которая то раздувается, то сокращается, в зависимости от натиска потока, не теряя при этом своих очертаний, своего объема и плотности. В этих постоянных и головокружительных превращениях пена видится трепетным живым существом, которое, кажется, можно погладить, словно собаку, по спине и, почувствовав его округлость, надкусить, словно яблоко. В чаще сельвы одни шумы сменяются другими, остров Святой Приски сливается со своим отражением в воде, а небо гаснет на дне реки. По приказу одного из псов, который всегда лает одинаково резким тоном